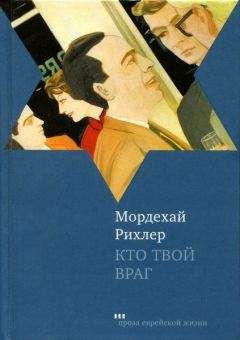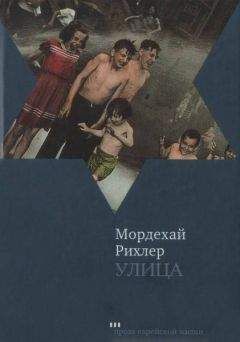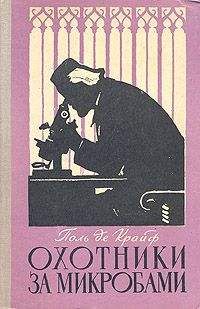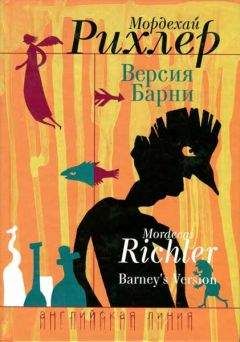Мордехай Рихлер - В этом году в Иерусалиме
К чему я веду, а к тому, что нет ничего легче, даже не слишком утруждая себя отбором деталей, представить и «Гроссингера», и Катскиллы, и людей, которые туда ездят, в гротескном виде. Но этот соблазн преодолеваешь, так как Катскиллы не сводятся к гротеску. С другой стороны — что есть, то есть — впечатление округ Салливан производит нелепое, и посмотри я на это сквозь пальцы а взамен превознеси, к примеру, слезливую «задушевность» Дженни Гроссингер или ее же «традиционное благоговение» перед псевдоученостью, я проявил бы толерантность, а что это как не либерализм самого неблаговидного толка.
И вот еще что. Архетипический гость «Гроссингера» принадлежит к тому классу американцев, который чаще всего служит мишенью для нападок. Даже когда «Комментари» выдвигает еще один отряд новеллистов, нерегулярные войска «Партизан ривью»[258] залегают в кустах, держа штыки наизготове. Сол Беллоу смотрит в оба, Альфред Кейзин[259] осмысляет, Норман Мейлер навастривает нож, и кто знает, какие мины закладывает следующее поколение еврейских писателей в эту самую минуту. Существовала ли когда-нибудь группа, которую так преследовали бы начисто лишенные сантиментов отряды хроникеров? Так терзали бы моралисты? Так стыдили бы за то, что они сумели разбогатеть? До них писали о люфтменчах, неимущих мечтателях — портных, закройщиках, бакалейщиках, столь любимых Бернардом Маламудом. После них один за другим явились самонадеянные университетские юнцы Филипа Рота, американцы, которым случилось расти в еврейских семьях, но вот к вклинившемуся между ними поколению — этой не слишком обаятельной ершистой компашке, — выкарабкавшемуся вместе с остальным средним классом Америки из Депрессии в благополучие, к нему еврейские писатели расположены меньше всего. В пьесах Клиффорда Одетса они представали поганцами. Сборщиками квартплаты. Затем их разделал под орех Джером Вайдман, а там явились Ирвинг Шоу и Бадд Шульберг[260]. По правде говоря, за все это время на их защиту встал один Герман Вук, из всего арсенала вооруженный лишь рогаткой клише. Ну а это не защита, а один конфуз.
И вот они в «Гроссингере», вот они — пожива для сатириков. Манна небесная для социологов. Вот они — еле-еле душа в теле, а все равно хорохорятся, их мучают изжога, последствия раковых операций, бесконечные кампании по сбору средств на помощь Израилю, засидевшиеся в девках дочери, сыновья, отправившиеся помогать неграм одержать верх в Миссисипи. «Гроссингер» — это их мечта об изобилии, воплощенная в жизнь, но если вам она кажется смешной, карикатурно преувеличенной, то и завсегдатаи видят ее такой же. По правде говоря, как бы я ни язвил касательно норковых палантинов и сватовства, они уже осмеяны, и не раз, заезжими комиками или гостями. Более того, если бы чистый душой гой рискнул хотя бы подумать о таких шутках, которые в ходу в «Гроссингере», не то что произнести их прилюдно, на него обрушился бы гнев Антидиффамационной лиги Бней Брит.
У «Гроссингера» гостям подают традиционные блюда, но в переизбытке, а ведь многим из них в детстве не доводилось есть досыта. Наезжают сюда также ведущие телевизионные комики — только здесь их настоящая публика. И они это ценят. Тут они демонстрируют настоящее остроумие: ведь по телевизору они вынуждены отпускать пресные шуточки, потому что изюминка, характерная для еврейского юмора, повышению рейтинга Нильсена[261] не способствует.
То ли дело «Старая песочница», как окрестила «Гроссингер» одна катскиллская реклама. Но лучше, чем рекламщик отеля и загородного клуба Кутшера, как ни тщись, не скажешь: «Вам бы и райские кущи не понравились — там же негде поиграть в гольф. Зато у Кутшера…» Здесь вам подадут столько кнышей, сколько влезет, в «Браунз» их сделают еще вкуснее, переименовав в «Roulade[262] из свежей куриной печенки». В том же духе наш старый знакомый куриный супчик с локшен в другом меню возродится как «куриный бульон с тонкой вермишелью».
Еда у «Гроссингера» — а ничего лучше я в Катскиллах не едал — превкусная, если вы любите кошерную кухню. Однако войти в просторную столовую, где одновременно можно накормить тысяча шестьсот человек, суровое испытание для одиночек.
— Мужчины постарше хотят сидеть за одним столом с молоденькими, — сообщил мне метрдотель Дэвид Гейвел, — девушки — с импозантными мужчинами. Им нужно запастись свиданиями на Нью-Йорк впрок — там-то они торчат всю неделю одни-одинешеньки. А у них, сами понимаете, в распоряжении всего два дня, вот они и торопятся, а что им остается? Как поедят, тут же требуют их пересадить. А мужчины, те сплошь и рядом жалуются: «Девушка, даже когда разговаривает со мной, строит глазки через мое плечо зубному врачу за соседним столом. С какой стати я буду назначать ей свидание, если она смотрит по сторонам?»
Я заглянул в местную газетку «Тэтлер»[263], валявшуюся на моем столе — она издается ежедневно, — и увидел, что ротатор волшебно преображает болезненно застенчивую вековуху в «блистательную, обворожительную» Барбару, плоскую, как доска девицу в «забавницу-резвушку» Иду, а добродушную квашню в «исполненную обаяния Мириам, из-за за которой вы просто не сможете пройти мимо стола 20F». Отметил я также, что среди прочих у «Гроссингера» побывали Пэдди Чаевски и Пол Гэллико[264]. Одно время издателем «Тэтлера» был Дор Шари, а Шелли Уинтерс, Бетти Гарретт и Роберт Альда[265] в нем сотрудничали. И сейчас студенты со всей Америки борются за место в отеле. За неделю здесь можно заработать сто пятьдесят долларов, и как говорят в «Гроссингере»: «Не скупись, на следующий год помощник официанта окончит университет и, глядишь, будет пользовать тебя от язвы». Моими соседями за столом оказались два застарелых холостяка, отроковица с кокетливой тетушкой и обвешанная украшениями вдовушка за шестьдесят.
— Просто больно смотреть, сколько еды пропадает, — сказала вдовушка, — это же преступление. Моего бы песика сюда — то-то бы он порадовался.
— А где он?
— Умер. — Она похлопала накладными ресницами, а в это время, перекрывая треск, из громкоговорителя донеслось объявление о вечере для одиночек:
— Напоминаем, исключительно для одиночек.
Отроковица адресовалась к тетушке:
— Опять будешь танцевать с Рэем?
— Почему бы и нет? Он дивно танцует.
— Кто бы спорил. Только он фейгеле.
Гомосексуалист.
— Видите вон ту девицу в мексиканского производства индейской шали? Так вот, она сказала своей мамаше: «Пойду на вечер одиночек, Если не вернусь до утра, считай, что я обручилась». Это ж надо быть такой оптимисткой!
Народу вечер одиночек собрал мало. Полный провал. Холостяк заскакивал в зал, выругавшись себе под нос, корчил рожу и был таков, а за компанию с ним линял и еще какой-нибудь холостяк. Разодетые в пух и прах дамы оставались в одиночестве — их обихаживали штатные служители: по очереди кружил то парикмахер, то танцмейстер в расчете на скорое воздаяние в своей профессиональной роли. Язвительный субъект, мой давешний приятель, снова занял место у стойки.
— Послушайте, — обратился он к одному из служителей, — где вы таких образин раздобыли? Вы что, договорились с Нью-Йорк-сити, чтобы они посылали к вам всех вековух?
Служитель поведал мне — с придыханием, — что в этом самом баре Эдди Кантор открыл Эдди Фишера[266], тогда никто о нем и слыхом не слыхал, он пел себе с оркестром, только и всего.
— Если бы мне в то время сказали, что Элизабет Тейлор подпустит Фишера к себе на пушечный выстрел… — От переизбытка чувства он запнулся. — Остальное, — сказал он, — достояние истории.
На террасу начали стекаться дамы, за ними волоклись мужья, теперь палантины, перебросив через руку, несли они. В Эстрадном театре только что закончилось очередное пятничное «Звездное ревю».
— Как вам ревю? — спросил кто-то.
— Хорошо идет под гефилте фиш.
Вот луч прожектора высветил Прентиса Миннера-четвертого. Миннер, одаренный, воинствующий негр, начал с зовущей на бой песни о гражданских свободах. Он спел: «От Сан-Франциско до острова Нью-Йорк — это твоя земля и моя»[267].
— А «Седраха»[268] вы знаете? — крикнул кто-то из зала.
— А «Старину Реку»?[269]
— А как насчет «Цу на, цу на»?[270]
Миннер пошел на компромисс. Он спел «Цу на, цу на», но с новыми словами, словами от КОР[271].
Служитель покинул меня, подсел к моему приятелю из бара.
— Нехорошо это, сесть за стол и с ходу сказать даме, что она…э-э… в теле: ведь вы видите ее впервые. Это некультурно. — И сообщил, что тому снова придется пересесть.
— Ладно, будь по-вашему. Ну я люблю женщин. Что я теперь, поганец, что ли?