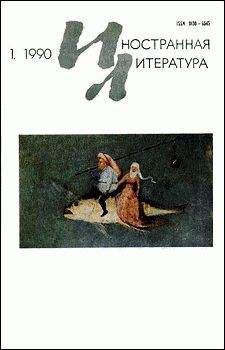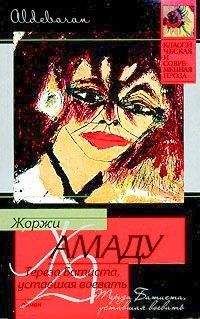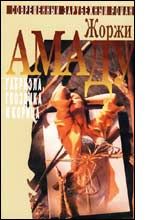Жоржи Амаду - Каботажное плавание
Рио-де-Жанейро, 1954
Збигнев Зембиньский57, узнав, что я собираюсь в Старый Свет и планирую побывать в Польше, просит меня помочь в одном деликатном деле. Правительство ПНР уже некоторое время настойчиво приглашает режиссера вернуться на родину, Министерство культуры торопит его, назначает сроки, требует немедленного ответа. Должно быть, польским властям неизвестно, что больше нет подданного Речи Посполитой Зембиньского, а под этим именем живет актер и режиссер, которого можно счесть бразильцем с куда большими основаниями, чем многих из тех, кто родился здесь.
К нам его, Туркова и пани Стипинску забросила война. Все знают, чем стало его пребывание в стране для нашего театра — он не то чтобы возродил, он создал его. В Польше у Зембиньского остался сын — студент Варшавской консерватории. Я уже дважды, бывая там, передавал ему деньги от отца, представил его Ярославу Ивашкевичу, который, насколько мне помнится, взял парня под свое покровительство.
Турков после нескольких нашумевших постановок уехал в Израиль, пани Стипинска блистала на сценах Рио, но зов родины оказался сильнее — она вернулась домой, сделалась примадонной польского театра и звездой польского кино. После этого ее соотечественники еще сильнее возжаждали возвращения великого режиссера — они взывали к его патриотическим чувствам, и мэтр просто не знал, куда деваться, как спастись от такого напора. Он видел единственное средство спасения: пусть-ка бразильская компартия напрямик скажет своим польским товарищам, что Зембиньский нам самим нужен, те, глядишь, и отвяжутся — для чего-то ведь существует пролетарский интернационализм?! Разумеется, роль вестника, который сообщит ЦК ПОРП о том, что ЦК БКП крайне неодобрительно смотрит на отъезд Зембиньского на родину, режиссер решил поручить мне. Я видел, что он и вправду в смятении, и поспешил успокоить его: раз надо, значит, надо.
Давая ему это обещание, я почти ничем не рисковал, ибо знал, как делаются дела в высших партийных эшелонах, и не сомневался, что наши руководители согласятся исполнить его просьбу. Все так и было: получая последние предотъездные инструкции, я изложил проблему и повез в Варшаву наше решительное «нет». Так что и у нас не сплошь были провалы — случались и удачи. Ну, а о том, что я твердо заверил Зембиньского в благоприятном исходе, я, верный партийной дисциплине, скромно умолчал.
Баия, 1991
Звонок из Парижа. Мне заказывают статью для специального выпуска «Нувель Обсерватер», посвященного 500-летию открытия Америки. Тема: Бразилия — страна латинской культуры. Ладно, говорю я, напишу и, повесив трубку, задумываюсь.
Бразилия — страна латинской культуры? Что же, мы, бразильцы, — латиняне? Если это и так, то относимся к редкому их подвиду. На самом деле мы — метисы, мулаты, кто побелей, кто почерней, да еще с медным индейским оттенком. Зелия, родившаяся в Сан-Пауло от итальянца-отца и итальянки-матери, она что — латинянка? По крови — вроде да, а по культуре — нет, конечно.
У нас в Баии в ходу два выражения, пущенные, кажется, американским антропологом Дональдом Пирсоном, чтобы поточнее определить нашу широко объявленную принадлежность к латинскому миру и нашу потаенную — или похищенную — африканскую натуру. «Белыми баиянцами» называют светлокожих метисов, занимающих высокое положение в обществе. «Белыми баиянцами» были, к примеру, братья Мангабейра — виднейший юрист Жоан и Отавио, депутат, министр иностранных дел, губернатор штата. А «белые мулатки» — это опять же светлокожие, а порой и белокурые полукровки, чью негритянскую суть выдают мочки ушей, толстые губы, оттопыренный крепкий зад. Нагляднейший пример «белой мулатки» являет собой Мария Роша, красавица баиянка, не ставшая «Мисс Вселенной» потому лишь, что бедра ее оказались круче, чем требовалось, на два дюйма — о, бессмертные два дюйма, за которые ей следует благодарить африканскую кровь, смешавшуюся с кровью тевтонской.
Эскориал, 1990
Нас пригласили в Испанию читать лекции на летних курсах при университете Алькала-де-Энарес и поселили в одном из тех зданий, которые еще в стародавние времена выстроил Франко для знатных иностранцев, приезжающих посмотреть на Долину павших.
Мне предстоит участвовать в «круглом столе», посвященном португалоязычной литературе и проходящем в рамках семинара по проблемам испанского романа. Культурный колониализм свел португалоязычные литературы до одной-единственной, да еще и пристегнул ее к испанским делам. Зелия же будет работать на другом семинаре, который называется «Политика и эмиграция». Кроме меня, на «круглый стол» приглашены — португальский писатель Жозе Кардозо Пирес, испанский профессор Перфекто Куадрадо, бразильский поэт Клаудио Мурило.
Кто-то из моих сотоварищей осведомляется, заплатили ли мне оговоренную за участие скромную сумму — 45 тысяч песет. Кардозо, например, уже их получил. Да нет пока, отвечаю я жалобно, и добрый португалец предлагает проводить меня к месту выдачи cachet. И мы бредем туда, и я получаю свои песеты, а Зелия робко спрашивает, не причитается ли и ей чего-нибудь за ее эмигрантов. А как же! И ей тотчас выплачивают девяносто тысяч — ровно столько, сколько вдвоем огребли маститые баиянец с лузитанцем. Мы гневно бичуем испанский колониализм за подобную дискриминацию, а Зелия ехидно осведомляется, не одолжить ли нам немножко?
Я пришел к выводу, что слишком во многих областях некомпетентен и неспособен: список вещей, которые все умеют делать, а я нет, ужасно длинен. Перечислю лишь несколько пунктов — я не умею танцевать, петь, свистеть, плавать, умножать и делить, правильно употреблять и произносить слова, водить машину (правда, ездить на велосипеде научился). В общем, я мало на что гож.
Париж, 1948
Я встречаю Пикассо у входа и в лифте говорю ему спасибо, что пришел. «За что ты меня благодаришь? — улыбается он. — За то, что я друг Пабло?» Кабинет Арагона, в ту пору занимавшего пост главного редактора газеты «Се Суар», как всегда переполнен пишущей братией, близкой к левым кругам. Литераторы приходят сюда за благословением Его Святейшества папы Луи.
Представители компартий Аргентины, Бразилии и Чили, мы условились о встрече с Арагоном и Пикассо, чтобы обсудить, какие меры можно принять для защиты Пабло Неруды, который подвергается невиданной доселе травле — его лишили сенаторской неприкосновенности, он скрывается в подполье, опасаясь неизбежного ареста. Надо действовать без промедления. Решено для начала отправить президенту Чили Габриэлю Гонсалесу Виделе телеграмму протеста, возложить на него ответственность за все, что может случиться с Пабло, потребовать, чтобы поэту гарантировали жизнь, свободу и безопасность. Подписать эту телеграмму должны гранды французской культуры, чьи имена произведут впечатление на чилийского диктатора. Латиноамериканские коммунисты, живущие в Париже, соберут подписи, а мы пока сочиняем текст нашей петиции, больше похожей на обвинительный акт или на ультиматум. Теперь надо сообразить, к кому обращаться — составить список из самых громких имен.
Но первое же названное мною имя — Жан-Поль Сартр — вызывает вначале оторопь, а затем взрыв негодования. Мне в лицо смеются соратники Арагона, которому я наступил на мозоль: «Сартр? Он — наш враг! Он никогда не подпишет!» В те годы отношения мэтра экзистенциализма с французской компартией были хуже некуда — противники не упускали случая как-нибудь насолить друг другу и достигали в этом больших успехов. Однако я отваживаюсь возражать Арагону, ибо считаю, что Сартр не откажет нам в своей подписи: как бы велики ни были его расхождения с коммунистами, он не примкнет к реакционерам. Арагон, скрежеща зубами, обвиняет меня в вопиющем политическом невежестве, в непоследовательности, в шаткости моих взглядов. Не знаю, чего больше в его отпоре — ярости или презрения, твердость его в защите партийных позиций легко перепутать с грубостью по отношению к тем, кто на эти позиции покушается. Но и я не уступаю ни пяди и предлагаю, что сам лично отправлюсь просить ренегата Сартра и его жену Симону де Бовуар подписать наш документ, ибо ни минуты не сомневаюсь, что подписи эти получу. Предлагаю пари. Арагон с прежним сарказмом, но чуть сбавив накал своего негодования, принимает: он, в свою очередь, совершенно уверен, что не получу я никаких подписей и вообще ничего, кроме решительного и однозначного отказа. «Пусть это послужит вам уроком: когда вернетесь с пустыми руками, надеюсь услышать от вас, товарищ, самокритику по вопросу вашей самонадеянности». Экзистенциализм и самокритика — вот два самых ходовых словечка той поры.
А я виделся-то с Сартром всего однажды — в издательстве, которое собиралось выпустить в свет его пьесы и одновременно — перевод моего романа «Бескрайние земли». Меня представили ему, он был более чем любезен, с похвалой отозвался о «Землях» — читал, дескать, прочел, и мне понравилось, — и я воспарил от таких слов, ибо тщеславие заставило меня им поверить. Как и все, сколько-нибудь причастные к литературе, я знал о привычках Сартра — знал, что он неизменно обедает «У Липпа», где у них с Симоной постоянный столик, туда-то я и направил свои стопы. Он узнал меня, что еще раз приятно пощекотало мое самолюбие, и, когда я поведал о мытарствах Неруды и показал текст телеграммы, ни секунды не колеблясь, подписал ее и передвинул листок жене. Я рассыпался в благодарностях, разве что в пояс не поклонился — радость переполняла меня, и не было в тот вечер в Париже человека счастливей.