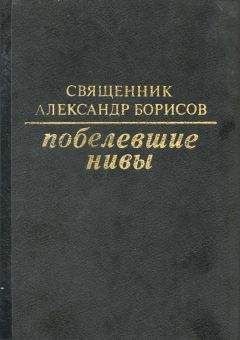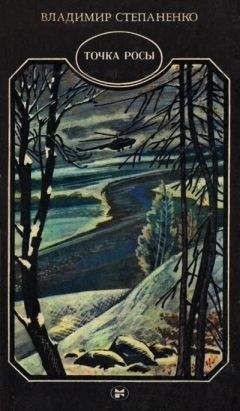Владимир Набоков - Эссе и рецензии
Повторяю: Руперт Брук любит мир, с его озерами и водопадами, страстной, пронзительной, головокружительной любовью. Он желал бы в час смерти унести его под полой и потом, где-нибудь в надсолнечном пределе, на досуге разглядывать, ощупывать без конца свое нетленное сокровище. Но он знает, что хоть и найдет он, быть может, невыразимо прекрасный рай, а все-таки свою влажную, живую, яркую землю он покинет навсегда. Чуя близкий конец, он пишет восторженное завещанье — пересчитывает свои богатства и, торопясь, составляет сумбурный список всего того, что любил он на земле. А любит он многое: белые тарелки и чашки, чисто-блестящие, обведенные тонкой синью; и перистую прозрачную пыль; мокрые крыши при свете фонарей; крепкую корку дружеского хлеба; и разноцветную пищу; радуги; и синий горький древесный дымок; и сияющие капли дождя, спящие в холодных венчиках цветов; и самые цветы, колеблющиеся по зыби солнечных дней и мечтающие о ночных бабочках, которые пьют из них, под луной; также — свежую ласковость простынь, которая скоро сглаживает всякую заботу; и жесткий мужской поцелуй одеяла; зернистое дерево; живые волосы, блестящие, вольные; синие, громоздящиеся тучки; острую, бесстрастную красоту огромной машины; благодать горячей воды; пушистость меха; добрый запах старых одежд; а также уютный запах дружеских пальцев, благоуханье волос, и пахучую сырость мертвых листьев и прошлогодних папоротников; младенческий смех студеной струи, бьющей из крана или из почвы; ямки в земле; и голоса поющие; и голоса хохочущие; и телесную боль, унимающуюся так быстро; и мощно-пыхтящий поезд; твердые пески; и узкую бахромку пены, которая рыжеет и тает, пока возвращается волна в море; и влажные камни, яркие на час; сон; и возвышенные места; следы ног на пелене росы; и дубы; и коричневые каштаны, лоснящиеся как новые; и сучки, очищенные от коры; и блестящие лужи в траве…”
И тут Брук находит мимолетное утешение в мысли о славе: “Мою ночь, говорит он, запомнят благодаря одной звезде, превзошедшей блеском все солнца всех человеческих дней, ибо не увенчал ли я бессмертной хвалой тех, которых я любил, которые дали мне свою душу, выпытывали вместе со мной великие тайны и в темноте преклоняли колени, чтобы увидеть неописуемое божество наслажденья?”
И снова забыв, что “смех умирает с устами смеющимися, любовь — с сердцами любящими”, поэт в трепетных ямбах сливает жизнь и смерть в одно пламенное упоенье.
Из дремы Вечности туманной,
из пустоты небытия,
над глубиною гром исторгся:
тобою призван, вышел я.
Я расшатал преграды Ночи,
законы бездны преступил,
и в мир блистательно ворвался
под гул испуганных светил.
Распалось вечное молчанье…
Я пролетел — и Ад зацвел.
Каким же знаком докажу я,
что наконец тебя нашел?
Иные вычеканю звезды,
напевом небо раздроблю…
В тебе я огненной любовью
свое бессмертие люблю.
Ты уязвишь седую мудрость,
и смех твой пламенем плеснет,
Я именем твоим багряным
исполосую небосвод.
И рухнет Рай, и Ад потухнет
в последней ярости своей,
и мгла прервет холодным громом
стремленье мира, сны людей.
И встанет Смерть в пустых пространствах
и, в темноту из темноты
скользя неслышно, убоится
сиянья нашей наготы.
Любви блаженствующей звенья,
ты, Вечность верная, замкни!
Одни над мраком мы, над прахом
богов низринутых, — одни…
Но не всегда женщина является для Брука вечной спутницей, залогом бессмертия. Так же как и в стихах, посвященных “великому быть может”, Брук в своих изображениях женщины и любви зыбок, переменчив, как луч фонарика, освещающего мимоходом то лужу, то цветущий куст. Он переходит от дивного безумия, внушившего ему “Прах” и “Призыв”, к каким-то мучительным чертежам, рисуя “неутоленные, раскоряченные желанья… причудливый образ, льнувший к такому же запутанному образу, личины ползущие, потерянные, извилистые, вязнущие, уродливо сплетающиеся, безумно блуждающие по прихоти углубляющихся тропин и странных выпуклых путей”.
Брук еще кое-как мирится с “причудливостью” человеческого тела, когда тело это молодо, стремительно, чисто, но что вызывает в поэте злобу и отвращенье, — это дряблая старость с ее беззубым, слюнявым ртом, красными веками, поздней похотливостью… И доисторический прием — сопоставленье весны и увяданья, грезы и действительности, розы и чертополоха — обновляется Бруком необычайно тонко.
Примером могут послужить следующие два сонета:
Троянские поправ развалины, в чертог
Приамов Менелай вломился, чтоб развратной
супруге отомстить и смыть невероятный
давнишний свой позор. Средь крови и тревог
он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог,
до скрытой горницы добрался он неслышно,
и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный
он с грохотом вбежал, весь огненный как бог.
Сидела перед ним, безмолвна и спокойна,
Елена белая. Не помнил он, как стройно
восходит стан ее, как светел чистый лик…
И он почувствовал усталость, и смиренно,
постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный,
пред совершенною царицею поник.
Так говорит поэт. И как он воспоет
обратный путь, года супружеского плена?
Расскажет ли он нам, как белая Елена
рожала без конца законных чад и вот
брюзгою сделалась, уродом… Ежедневно
болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух
обедов. Старились. И голос у царевны
ужасно-резок стал, а царь — ужасно глух.
“И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою
идти! Зачем Парис втесался?” Он порою
бранится со своей плаксивою каргой,
и, жалко задрожав, та вспомнит про измену.
Так Менелай пилил визгливую Елену,
а прежний друг ее давно уж спал с другой.
Еще резче высказывается это отвращение к дряхлости в стихотворении “Ревность”, обращенном, вероятно, к новобрачной. В нем поэт так увлекается изображеньем грядущей старости розового, молодцеватого супруга, которого он уже видит лысым, и жирным, и грязным, и Бог знает чем, — что только на тридцать третьей — последней — строке спохватывается: “Ведь когда время это придет, ты тоже будешь старой и грязной…”
Мне кажется, что и в этом стихотворении, и в другом, посвященном поразительно подробному и довольно отвратительному разбору морской болезни, явленья которой тут же сравниваются с воспоминаньями любви, Брук слегка щеголяет своим уменьем зацепить и выхватить, как бирюльку, любой образ, любое чувство, слегка чернить исподнюю сторону любви, как чернил (в стихотворении о “мухе на серой потной шее мертвеца”, упомянутом выше) вид загробного края. Он отлично знает, что смерть — только удивленье; он певец вечной жизни, нежности, лесных теней, прозрачных струй, благоуханий; он не должен был бы сравнивать жгучую боль разлуки с изжогой и отрыжкой.
Как-никак Брук не был счастлив в любви. Знаменательно то, что полное безоблачное блаженство с женщиной он может представить себе только перенося и себя, и ее за предел земной жизни. Бесконечно любя красоту мира, он часто чувствует, что неуклюжая, нестройная страсть нарушает своей прозаической походкой светотени и мягкие звуки земли. Это вторженье гуся позы в сад поэзии выражено у него следующим образом.
Моими дивными деревьями хранимый,
лежал я, и лучи уж гасли надо мной,
и гасли одинокие вершины,
омытые дождем, овеянные мглой.
Лазурь и серебро и зелень в них сквозили;
стал темный лес еще темней;
и птицы замерли; и шелесты застыли,
и кралась тишина по лестнице теней.
И не было ни дуновенья…
И знал я в это вещее мгновенье,
что ночь и лес и ты — одно,
я знал, что будет мне дано
в глубоком заколдованном покое
найти сокрытый ключ к тому,
что мучило меня, дразнило: почему
ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное
молчанье — часть моей души.
Дыханье затаив, один я ждал в тиши,
и, медленно, все три мои святыни —
три образа единой красоты —
уже сливались: сумрак синий,
и лес, и ты.
Но вдруг —
все дрогнуло, и грохот был вокруг,
шумливый шаг шута в неискренней тревоге,
и треск, и смех, слепые чьи-то ноги,
и платья сверестящий звук,
и голос, оскорбляющий молчанье.
Ключа я не нашел, не стало волшебства,
и ясно зазвучал твой голос, восклицанья,
тупые, пошлые, веселые слова.
Пришла и близ меня заквакала ты внятно…
Сказала ты: здесь тихо и приятно.
Сказала ты: отсюда вид неплох.
А дни уже короче, ты сказала.
Сказала ты: закат — прелестен.
Видит Бог,
хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!
А то поэт жалуется, что возлюбленная его не понимает: он просит у нее кротости — она его целует в губы, просит сокрушительных восторгов — она целует его в лоб. Он сам признается, что он принадлежит к числу тех, которые “блуждают в туманах между раем и адом, взывают к призракам, хватают, и сами не знают, любят ли они вовсе, а если и любят, то кого — даму ли из старинной песни, шута ли в маскарадном платье, или привиденье, или свое собственное лицо, отраженное во мраке”. Один из таких призраков ему однажды и явился.