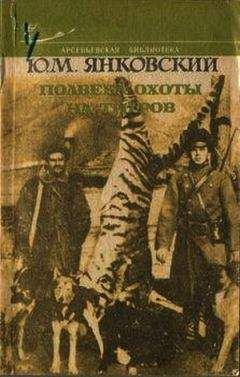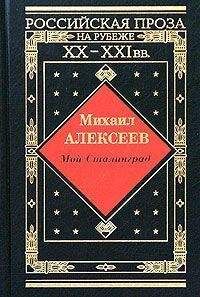Юрий Черниченко - Хлеб
Дима принес мне веточку мимозы. Он чмокнул тетю в щеку, меня же обнял и зашептал на ухо:
— Представляешь, спрашиваю у дежурной по вокзалу, вот такой бабищи: «Где тут у вас целина?» А она вздыхает: «Нету целины, милок, одна залежь осталась…» На, держите, раздавите дорогой. Из личного НЗ, три молотка!
Он достал из кармана пальто бутылку с синей наклейкой. «Коньяк «Мартель», — разобрал я.
— И от нас, чуть не забыл! — шеф вытащил два жалких лимона.
— Да это наши, с дерева! — узнал я.
— Бери да помни.
— Мы их сами вырастили, в кабинете, — растроганно объяснил я брату, — все ждали, когда пожелтеют.
Как красив и дорог мне был милый братище! Я любовался ладной непокрытой его головой, молодой фигурой, модной добротной одеждой, свежайшей рубахой. Джентльмен до кончиков ногтей, черт побери. Я любил его, всегда чувствовал его превосходство над собой, а теперь особенно охотно покорялся этому чувству. Хотелось, чтоб все видели, кто меня провожает. Я снял свою глупую шляпу.
— Будь там человеком, — мягко наставлял брат, — появится хоть какая-то возможность — доучивайся. Имей на плечах свою голову, в обиду себя не давай, других не обижай, — верно, тетя?
— Куда там обижать, самого б куры не загребли, — вздохнула тетя.
— Загребут — отроем. С библиотекаршей как решил — заберешь ее? Ну-ну, разберетесь сами. Короче: снова да ладом! Со щитом — или на щите, точно, тетя?
— Точно, куда уж точней, — всхлипнула тетя, как-то по-своему поняв брата, и стала целовать меня.
Митинг кончился, народ побежал к вагонам. Оркестр грянул марш, я обнял своих, вскочил на подножку, где уже висела людская гроздь, — поехали!
Сор, склянки на перроне, сматывающий удочки репортер, уже неслышный оркестр — и моих трое… Прощай, Белокаменная!
* * *
— Это кто к тебе приходил? — спросил меня в проходе парень, косясь на бутылку «Мартеля».
— А тебе что?
— А то, лапонька, что я здесь комиссар и отвечаю за твой полиморсос.
— Это что ж такое?
— Темень, — покачал головой. — Политико-моральное состояние. Так кто был-то, иностранный корреспондент?
— Брат. Он из Внешторга. А корреспондент — это я. Был «наш спецкор», теперь прицепщик. Казаков, Виктор.
— Значит, сначала познакомимся, потом уж проспимся? Вадим Сизов. Сдам тебя на целине и снова в горком комсомола, сводки писать.
— А это зачем же? — спросил я про ватник.
— Пижонство.
— Ты хороший парень, верно? — догадываюсь я.
— Прелесть. Давай-ка на третью полку. Привяжись. Но если этот пузырек без меня… Будешь иметь кровного врага. Разделаюсь — найду тебя, ладушки?
— Ладушки, — с удовольствием повторяю я.
3
Давно уже покачивалась под столом пустая Димкина бутылка, давно уже перезнакомились все в вагоне, тамбурные романы закрутили, давно уже состоял я редактором поездной газеты «Даешь целину!», а все тянулась за окнами белая степь, все длилась дорога — великая, транссибирская.
Выпустив свежий номер, я пошел за Вадимом, — пусть просмотрит, мне же покойнее.
Вадим с каждым днем нравился мне все больше. Такого живого, умного, а главное — целенаправленного «комиссара» мне не доводилось встречать. Подкупала ирония, с какой исполнял он хлопотную свою роль — быть центром разрозненной массы. К формальностям разного рода, к лобовым всяческим речам он относился своеобразно: дескать, мы-то с тобой знаем, что все — чешуя, ну и ладушки. Раз какому-то «мужику» нужно — сделаем, чтоб отвязаться. Но при этом разумелось, что есть святые вещи, о которых трепать языком не пристало. У него был талант располагать к себе, талант доверительности. Это было внове — и радовало.
Идем с ним поездом.
В тамбуре парень зажал девчонку — ничего не видят, ничего не слышат.
— Граждане, проходите, не скопляйтесь, чего не видели? Интересно вам, чем это кончится, да? — тоном милиционера с Дерибасовской говорит Вадим. Девчонка вскрикивает, но мы уже прошли в вагон.
— Добро, можешь вешать. Что значит — профессионал! — Цензор у меня покладистый. — А старый номерок сюда давай.
— Зачем они тебе?
— Отчет. Работу надо показывать только лицом!
— Слухай, комиссар, а сколько «Победа» стоит? — спрашивает Борис Бакуленко.
— Покупать собрался?
— Не я — Гошка. Вже и писню сочинив, подохнешь.
— Какую такую писню? А ну, давай! — протягивает он гитару Литвинову.
— Да не я, это у нас в сборочном, — упирается тот.
— Цену набиваешь, да? На колени встать?
Что делать? Гошка берет удалой аккорд:
Не печалься, дорогая Катя,
Я — за хлебом для большой страны!
Не уверен, всем ли вволю хватит,
Но уж хватит теще на блины.
А потом я с целины приеду
В теплый край, где ветер гнет лозу,
И тебе на собственной «Победе»
Личную сберкнижку привезу.
Аудитория — в восторге.
— Классик! Ив Монтан. Давай в радиорубку. Включаем в первую же передачу, — командует Вадим. — Я вот чего к вам, ребята. Скоро Петропавловск, из других вагонов полезут в ресторан. Подъемные прямо жгут их. Один накуролесит — пятно на эшелон. Надо бы подежурить, а надежнее парней, чем ваш вагон, нету…
— Это можно, — отозвались игравшие в «козла».
— Всегда пожалуйста, — паренек с «Кавалером Золотой Звезды» в руках.
— Вин у мене буде иметь бледный вид та макаронную походку, — обуваясь, говорит Бакуленко.
Я догадываюсь: что-то подобное Вадим учинил и в других вагонах. Потому что в холодном Петропавловске целинники ходят по перрону напряженно, искоса поглядывая группа на группу, даже картошку у бабок не покупают.
— Здорово это у тебя получается, — откровенно говорю ему я.
— Что именно?
— Подходец к людям, — изображаю рукой что-то вроде хода рыбы.
— Устал я чертовски, Витька, — чуть рисуясь, говорит он. — Но правда: никаких чепэ (тьфу-тьфу), едва ли не первый эшелон так проходит. Знаешь мое правило — взялся, так делай чуть лучше, чем рядовой товарищ. Из уважения к себе.
— Что делать?
— Безразлично.
— А если ты сам, — показываю я на себя, — рядовой товарищ?
— Все равно: чуть лучше, чем можешь, — смеется он.
* * *
Мы прибыли в сибирский город. Что он сибирский, видно сразу: глубина снега, деревянные тротуары, толщина бревен в домах, зримое нежелание улиц нравиться — все вместе тому доказательством.
Дом областного сельхозуправления, где нас распределяют, — будто Смольный в Октябре. В вестибюле, на широкой лестнице, в коридорах — наш брат с фанерными чемоданами, «сидорами», рюкзаками. Закусывает, открытки пишет, адресами обменивается, спит, ожидая отправки в разные концы степи. Но это — областное учреждение, ходят люди с бумажками, тычутся в кабинеты приезжие из районов, суета.
В широкие окна видно: взрывая гусеницами нечистый уличный снег, проходит колонна тракторов — подкрепление уже поступает.
В уголке человек в волчьей дохе — мех наружу — рассказывает новичкам:
— Лиса есть, заяц. Косача много. (Голос: «Это что?») Тетерев. Глухарь реже, осторожный. (Тот же голос: «Глухари да косачи, не помогут им врачи…») Окунь в речке, гольян. Гриба в иное лето — косой коси. («А зимой холодно?») На печке — нет.
По лестнице спускается распределяющий в обшитых кожей белых бурках, за ним два директора МТС, «пробивают вопросы». В споре обе стороны не чураются обычной в таких случаях демагогии, говорят одновременно.
К ним поднимается Вадим.
— Я хотел… насчет москвичей, — говорит он распределяющему, — Не надо бы разделять их, люди познакомились, сдружились.
— Вы откуда? — косится тот, что в бурках, на Вадимов планшет.
— Сопровождающий. От Московского горкома комсомола, — почему-то смущается Вадим.
— А-а… Пошлем кого куда надо. У вас все? — И громко: — Кто в Черемшанку, приготовиться к погрузке! Группа совхоза «Ермак», посылайте старшего за направлениями!
— Нужно еще десять человек в Рождественскую МТС! — кричит второй директор. — Есть желающие в Рождественку? Смотрите не прогадайте!
Мы с Борисом Бакуленко и Гошей Литвиновым ищем на карте эту самую Рождественку.
— Железная дорога… километров пятнадцать.
— Речка какая-то.
— Рискнем? — спрашиваю ребят.
— Як уси, так и я. — Борис.
— Где наша не пропадала. — Гошка.
Начинаю вербовать добровольцев. Говорю малому с «кавалером»: «В Рождественку поедешь?» — «А мне один хрен», — улыбается. «Так и записываю». — «Нинкин Сергей Митрофанович». В сутолоке мы как-то забыли о Вадиме. Вдруг вижу — он стоит у окна, глядит на проходящие трактора. Вид необычный для него — печальный, потерянный.