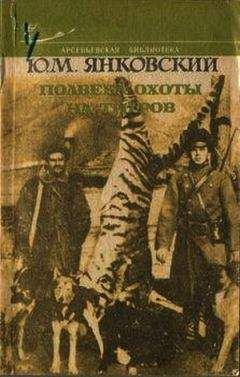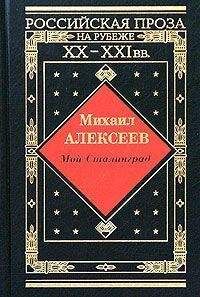Юрий Черниченко - Хлеб
Ничьим, повторяем, открытием целина не была. Засев пригодных к пахоте степей в центре континента был предрешен самим развитием нашего земледелия. Появление резерва техники, а главное — острая потребность в зерне ускорили решение, и последний час ковылей пробил. Нужен был только народ, чтоб помочь коренному населению степи. Народ нашелся.
2
На целину я ехал добровольно.
Наш эшелон отправлялся с Казанского вокзала, провожали нас пышно, гремела музыка, на перроне плясали, целовались, плакали: хоть и не фронт, но, как тогда говорилось, «не к теще на блины». К перронной стойке кто-то приклеил «500-веселый», а по вагону растянул: «Мы покорим тебя, целина!»
Я был радостно пьян, волны счастья заливали меня, я готов был обнять всех и каждого и чувствовал близость слез.
Отъезд — старинное лекарство — вдруг разом решил все проблемы, сделал жизнь легкой и сладкой. Мне было двадцать четыре, я жил в Подмосковье, работал в районной газете, умел ладить с теткой, заменившей мне мать. И все же проблем у меня накопилось порядочно.
В редакции меня любили, печатали обильно, считали «растущим». Время брало свое, в мозгах что-то менялось, а наша заводь была тиха и больше всего боялась «политических ошибок», хотя никакой особой политики мы не делали.
А потом вышла эта история с нолём. Я дежурил и по своей воле, боясь все той же «политической ошибки», убавил один ноль в обязательствах колхоза. Хозяйство то я знал, и ноль в обращении был явно лишним! Скандал вышел грандиозный. Мне следовал минимум строгий выговор. Тогда-то, тяжко переживая свое падение с высот славы, я и сказал редактору, что уезжаю на целину.
На целину? Это в корне меняло дело. Теперь уж мне следовал выговор без строгости. А к нему — месячный оклад. Коллектив редакции посылал на целину пятнадцать процентов своего состава — меня то есть! Корабли мои были сожжены.
А кроме того — я должен был жениться. Должен был, потому что уже два года дружил («встречался», «ходил» — и какие еще глаголы применяются в этом случае!) с Таней-библиотекаршей. Она некрасива, нескладна, не приспособлена к жизни — не от мира сего, одним словом. Частенько болела и сама называла себя «бледная немочь». Как я, районный пижон, позволил этой странной девчонке опутать себя — ума не приложу. Все язык, враг мой.
Поначалу мы виделись разок в неделю, бродили под липами, я нес всякую околесицу, болтал весело, без устали и на прощанье целовал — жеманно, чтоб ясна была шутка — ее длинную руку. Незаметно встречи эти, всегда для меня доступные, стали чаще. А там уж появились та скамейка под сиренью и комнатка на втором этаже старого деревянного дома.
Снимала ее Таня вместе с подружкой — быт на шестьсот тогдашних рублей. Танина тахта, плетеная этажерка с гипсовой головой Пушкина и десятком-другим книг, рядом — платья на плечиках. Ни цветка, ни вышивки. У подружки — иное дело: и постель с кружевным подзором, и зеркальце с косметикой на тумбочке, и киноактеры над изголовьем. Лучшим качеством подружки было, пожалуй, умение найти неотложные дела, как только я приходил.
Бывало мне хорошо с Таней? Да, и все чаще. Но чем доступней мне было незащищенное девичество, тем трудней становилась обратная дорога. Не повернется же у вас язык сказать хорошему, в сущности, человеку, что все это блажь, затянувшаяся шутка, что пора по домам и вообще — кончим! Вы думаете, что все образуется, сгладится как-то само собой, а оно не сглаживается.
Я должен был жениться. Сознание это вселяло в меня ужас. Дело даже не в квартире. На худой конец, моя тетя, создание и гордое, и сварливое, и бесконечно доброе разом, согласилась бы поставить в своей комнате ширму. Но жениться потому, что это нужно, что без этого уже нельзя, впрячься в тяжкую лямку и навсегда отрезать себе путь ко всему романтичному, яркому, бурному, ради чего и стоит-то жить, — было выше моих сил!
…Условленный свист, в окошко глянула Таня. Значит, отпросилась с работы. Интересно, услала подружку?
— Танек, все, завтра еду! — выпаливаю уже на пороге.
Она, с закрутками в волосах, в выцветшем халатике, будто нарочно некрасивая, домывала полы.
— Уже? — Она побледнела. — В какую же область?
— Просто на целину. Завтра скажут. Вот тебе пакет с приказом, — оставляю ей редакционный оклад, — вскрыть, когда получишь телеграмму: «Квартира есть».
Ложь была в том, что я не говорил ей сразу — «едем».
— Гляди, что отхватил, — облекаюсь в новый зеленый ватник. — Землепроходец. Дежнев, Хабаров — кто там еще?
До нее вдруг дошло.
— Ты меня не бросай, — опускается на пол, обнимая мои колени. — Ну, пожалуйста, вот честное слово — не бросай! Я тебе все делать буду.
— Не говори слов.
— Если с тобой что случится, я в ту же минуту узнаю и кончусь.
— Скажите какая колдунья, — поднимаю ее с пола, целую в нос.
— Я тебя люблю. Иди сюда. Нет, выключи свет.
Поздние сумерки, в окне снег идет, дымки — к ночи затопили. Старая, обогретая Россия. Струнный сигнал электрички.
— Лап, я буду послушная, болеть не буду ни капельки. Только пиши каждый день, ладно?
— Ты веди себя хорошо.
— Господи, кому я нужна, мощи. Ты во сне мне показывайся, ладно?
— Скоро она придет, не хочу ее сегодня видеть, — Я зажигаю свет.
— Провожать тебя не поеду. Обожди… Присядь перед дорогой, — Помолчали. — Ну вот, иди. И не оглядывайся.
Оглядываюсь я только в воротах. Она прильнула к окну.
А все-таки свобода — это чертовски здорово!
Итак, перрон. Приехали мы с тетей и моим бывшим завотделом. Дома, как положено, выпили посошок, и вторую, чтоб не хромать, и троицу — бог ее любит, и четвертый угол — без него изба не строится. В зеленом ватнике и модной, бутылочного цвета, шляпе (шапки не достали) чувствую себя чем-то вроде ополченца.
Гремел оркестр, девушки из райкомов комсомола заводили песню:
Мы ждем сердечных писем
И нежных телеграмм.
Пишите нам, подруги,
По новым адресам!
Но слов никто не знал, и под бодрый мотив норовили танцевать фокстрот. Вовсе пьяных не было, но и вполне трезвого поискать: на руках подъемные. Разговоры про что угодно, кроме целины.
— А фамилия летчика — Ли-Си-Цын? Понял? Ли-Си…
— Вашей маме зять не нужен?
— Семипалатинск — семь палаток, выбирай…
Хотите знать, о чем толкуем мы?
— А ты кальсоны китайские взял? — секретничает тетя.
— Там, — указывает шеф наверх, разумея райком, — поддержали твою инициативу, а то бы не отпустили, своей газете нужен.
Тетя дала мне мятную лепешку.
— Пожуй, чтоб не пахло. Дима приедет — ему не понравится… — И моему шефу, не без значительности: — Брат его должен подойти.
— Москвич?
— Во Внешторге работает. Все по заграницам, пшеницу продает.
— Промтовары привозит? — поинтересовался шеф.
Какой-то парень, москвич с виду, но тоже в ватнике и кирзе, вынес из вагона и приклеил к борту самодельный плакат. Изображен был на нем уморительно-гнусный суслик, его перечеркивал жирный крест: «Конец суховеям!»
— Лихо, а? — подмигнул он мне. — Ты из эшелона? Может, выступишь сейчас?
Я не понял.
— Да митинг надо провести накоротке. Мужик из горкома подъехал, а у нас ничего не готово. Я тут набросал кое-что, разберешь?
Он протянул было мне листок, но, обрадованный возможностью удружить кому-нибудь, я с такой готовностью ухватил бумажку и так неосторожно дохнул при этом, что он поморщился:
— И ты, Брут… Ладно, гуляй уж.
К двум хлопцам из моего вагона приставал репортер радио, совал им микрофон:
— Скажите, что едете по велению сердца, фамилии назовите, всего делов.
— Литвинов Георгий, — выдавил из себя тот, что щуплее. — С автозавода, сборочный цех. На целину еду добровольно. Жить негде.
— Младший сержант Бакуленко Борис Максимович, прямо с армии — на целину, — рапортовал другой, здоровенный. — Слухай, поихали з намы, и крупорушку твою возьмем, — обнял он репортера.
Малый — москвич распорядился:
— Ребятки, давайте всех из вагонов на митинг. И вы (репортеру) тоже — к трибуне, запишите на пленку.
Старший брат мой, Дмитрий Казаков, появился в конце перрона, когда уже начался митинг.
Выступал «мужик из горкома», репортер совал ему к лицу микрофон. А тот, видимо, привык рубить рукой воздух и раз за разом попадал по черенку микрофона ребром ладони. Говорил он общие по той поре слова:
— Товарищи комсомольцы и молодежь! Вы едете на необжитые земли, чтоб пробудить их и поставить на службу родине. Трудностей впереди очень и очень много, но нет таких крепостей, какими не овладело бы комсомольское племя. Как говорится, вы едете не к теще на блины. Провожаем мы вас с музыкой, но не так будем встречать тех, кто спасует, задаст стрекача…