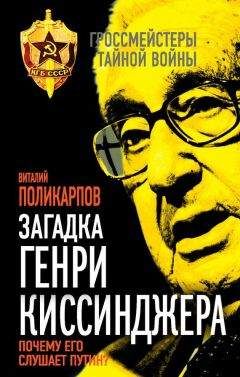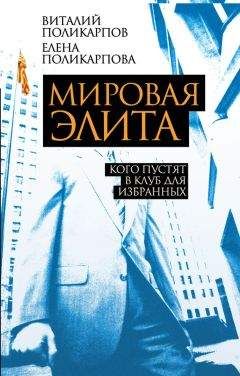Уистан Оден - Чтение. Письмо. Эссе о литературе
* * *
Шекспир использует инструментальную музыку, преследуя две разные цели: она несет социальную нагрузку, становится как бы голосом бренного мира в массовых действах — это может быть танец или траурный марш и, как ни странно, музыкальный образ потусторонних сил или сказочной страны. В последнем случае имеется авторская ремарка: «Играет торжественная музыка».
Музыка может быть и прямым гласом небес, как музыка сфер, которую слышит Перикл, или музыка, доносящаяся из-под земли, которую слышат солдаты Антония, или та, что сопровождает видение Екатерины, — ее могут заказывать духи, носящиеся между небом и землей, такие, как Оберон или Ариэль, или мудрецы, как Просперо и врач в «Короле Лире» и «Перикле», чтобы она волшебным образом подействовала на людей. Когда музыку заказывают врачи, исполняют ее, конечно, обычные музыканты, и здоровым кажется, что она звучит «пронзительно и скорбно», но для больных людей, таких, как безумный Лир или лежащая в беспамятстве Таиса, она звучит как имитация далекой небесной музыки и оказывает целительное действие. «Торжественная» музыка обычно звучит за сценой. Это значит, что она исходит из невидимого источника, из-за чего находящиеся на сцене не могут сознательно реагировать на нее. Одни ее не слышат, на других она оказывает совершенно неожиданное действие. Так, в «Буре» (акт II, сцена 1) музыка, от которой засыпают Алонзо и его товарищи, не действует на Антонио и Себастьяна, и это указывает на то, что у них недобрая душа, что затем и подтверждается, когда они затевают убийство Алонзо.
В некоторых случаях, например в сновидении Постума («Цимбелин». Акт V, сцена 4) у Шекспира есть строки, которые произносятся с инструментальным музыкальным сопровождением. Таким образом происходит деперсонализация говорящего — музыка заглушает характерный тембр его голоса. То, что он произносит под музыку, — это не его слова, а послание, то, что нужно объявить людям.
«Антоний и Клеопатра» (акт IV, сцена 3) — пример того, как Шекспир мастерски использует музыку в качестве мрачного предзнаменования. В первой сцене этого акта хладнокровный, рассудительный Октавий отказывается принять вызов старомодного Антония и выйти на поединок; он принимает решение на следующий день начать битву. Октавий видит в рыцарском поступке Антония проявление неуместного задора. «Смешно», — говорит он о выходке своего противника. После этого мы видим Антония в состоянии сильного душевного волнения; разговаривая с друзьями, он думает о своей горькой участи:
Дай руку мне, ты верным был слугой. —
И ты. — И ты. И ты. — Служили вы
Честнее мне, чем многие цари.
Быть может, завтра новый господин
Приказывать вам будет. Потому
Я озираю вас прощальным взором.
Я, верные друзья, вас не гоню,
Нет, только смерть расторгнет наши узы.
И боги вас за это наградят[73].
Мы уже знаем, что Энобарб, который присутствует при этом, замыслил предать Антония. В следующей сцене обычные солдаты слышат потустороннюю музыку, которая означает, что
Бог Геркулес, которого Антоний
Считает покровителем своим,
Уходит прочь.
Благодаря этому приему мы понимаем, что за человеческими персонажами, такими, как Октавий, Антоний, Клеопатра, Энобарб, стоят высшие силы. Своими действиями, хорошими и дурными, они творят волю этих высших сил и не могут ничего изменить. Самонадеянность Октавия и чувство обреченности Антония получают свое подтверждение, хотя они об этом не знают.
Но в последующих пяти сценах оказывается, что оба они ошибались, потому что Антоний выходит из битвы победителем. Ни Октавий, ни Антоний не слышали подземной музыки, но мы-то, зрители, слышали, и это наше знание придает сцене временного триумфа Антония истинный пафос, которого не было бы, если бы не было звучавшей за сценой музыки.
Из всех примеров земной инструментальной музыки в пьесах Шекспира самые интересные, пожалуй, те, где она является чем-то вроде колдовства. Тем, кому эта музыка нравится, она нужна для усиления их иллюзий.
Так, когда Тимон задает большой пир, он хочет слушать музыку. Она должна защитить тот воображаемый мир, в котором только и может жить Тимон, — где все друг друга любят, а он является средоточием и главным источником этой всеобщей любви.
Тимон
Пусть музыка играет.
Первый гость
Ах, Тимон,
Подумайте, как сильно все вас любят![74]
Один из его гостей, Апемант, записной насмешник, считает, что только он один видит мир таким, каков он есть, то есть совершенно немузыкальным, где никто никого не любит и думает лишь о себе. «Ну, — говорит ему Тимон, — если ты снова начинаешь сыпать бранью, я тебя не желаю слушать. Прощай и возвращайся с другими песнями».
Но после этой сцены Тимон больше не услышит музыку.
Ни у Тимона, ни у Апеманта нет музыки в душе, но Апемант беззастенчиво выставляет это напоказ, а Тимон отчаянно пытается уверить себя, что у него есть музыка в душе, а когда понимает, что это не так, отчаивается.
Фальстафу музыка, как и бурдюк, нужна для того, чтобы поддерживать иллюзию, будто он живет в раю, где все невинны и ничего особенного с ним не случится. В противоположность Тимону, который на самом деле не любит людей, Фальстаф — натура любящая. Он наивно верит в то, что принц Гарри любит его так же, как он любит принца Гарри, и что принц — такое же невинное дитя, как и он.
Шекспир предусмотрел музыкальное сопровождение сцены, которая разыгрывается между Фальстафом, Доль, Пойнсом и принцем Генри («Генрих IV». Часть II, акт II, сцена 4). Пока играет музыка, время для Фальстафа не движется. Он не состарится, ему не придется платить долги, принц навсегда останется его добрым приятелем. Но музыка вдруг обрывается с приходом Пето, словно время наконец заявило о себе. Принцу становится неловко.
Принц
Ей-богу, стыдно, Пойнс, что, как глупцы, Мы праздно тратим золотое время,
Когда мятеж, как южная гроза,
По нашим головам дубасит градом.
Мой меч и плащ сюда! Прощай, Фальстаф.
Фальстаф не сильно расстроен:
Фальстаф
Теперь поспать бы, а вместо этого изволь скакать всю ночь сломя голову[75].
В жизни принца Генри настал решающий момент, отныне он будет правителем, ответственным за судьбы страны. Фальстаф не изменится, потому что он не способен измениться, но в этот миг, хотя он об этом и не подозревает, вместе со словом «прощай»[76] из его жизни уходит самое главное — дружба с принцем Генри. Когда они снова встретятся, первое, что услышит Фальстаф: «Прохожий, кто ты? Я тебя не знаю»[77].
Раз музыка, предполагаемый символ времени, требует реального отрезка времени для исполнения, слушать музыку все равно что впустую тратить время, особенно это верно для тех, кто, как король, должен прежде всего прислушиваться к голосу Высшей справедливости:
Что? Музыка? Ха-ха! Держите строй:
Ведь музыка нестройная ужасна!
Не так ли с музыкою душ людских?
Я здесь улавливаю чутким ухом
Фальшь инструментов, нарушенье строя,
А нарушенье строя в государстве
Расслышать вовремя я не сумел[78].
* * *
В шекспировских пьесах два вида песен: одни исполняются по чьей-либо просьбе, другие звучат экспромтом, и у каждой своя сценическая задача.
Когда один персонаж хочет послушать музыку и просит другого спеть, то, до тех пор пока песня не закончится, действие замирает. Обычно с просьбой спеть что-нибудь обращаются к тому, кто это делает хорошо, и, хотя мы мало знаем о том, какие мелодии звучали во время шекспировских спектаклей, все же по дошедшим до нас песням, относящимся к тому времени, можно смело предположить, что для их исполнения требовался определенный профессионализм.
Применительно к сцене это означало, что персонаж, которого попросили спеть, на какое-то время отходит от своей роли и становится музыкантом-исполнителем; для слушателей важен не его характер, а его умение петь. Следует помнить о том, что песни — это интерлюдии, вкрапленные в ткань стихотворной или прозаической пьесы, предназначенной для декламации. Это не оперные арии, где главным драматическим средством является само пение и мы забываем, что поющий не персонаж, а артист — так, слушая актера, говорящего со сцены белым стихом, мы забываем, что перед нами актер.
В театральной труппе елизаветинских времен, разыгрывающей пьесы, в которых встречаются песни, наверняка был такой человек, которого держали не за актерское мастерство, а скорее за музыкальные способности. Если бы Бальтазар, Амьен и Шут не пели, драматическое действие в пьесах «Много шума из ничего», «Как вам это понравится» и «Двенадцатая ночь» вполне могло бы проходить и без них.