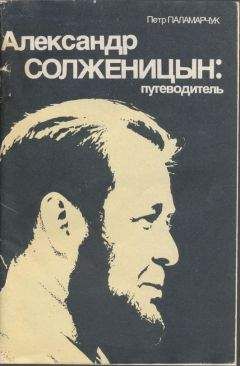Газета День Литературы - Газета День Литературы # 87 (2004 11)
Всего этого лучше бы не знать. Цена познания — страшная цена. Поэзия искренне ищет ответов, но дьявол только посмеивается над ней. Мир поражен слепотой. Зло и добро неотличимы одно от другого. "Зло во всем: в привычном, неизвестном, зло — в самой основе бытия". Власть лукава, народ доверчив: чернь поет и пляшет, готовая растерзать любого, на кого укажет Инквизитор (чувствуется, что Достоевский помогает держаться). Но поскольку "ложь и истина — всё игра", — держаться можно только правил игры. А они безжалостны. "Наступает бесноватый век, наступает царство одержимых". Вперед лучше не смотреть — на месте грядущего оказывается прошедшее, но и его лучше стереть из памяти.
Я хотела бы самого, самого страшного,
Превращения крови, воды и огня,
Чтобы никто не помнил вчерашнего
И никто не ждал бы завтрашнего дня.
Чтобы люди, убеленные почтенными сединами,
Убивали и насиловали у каждых ворот,
Чтобы мерзавцы свою гнусность
поднимали, как знамя,
И с насмешливой улыбкой шли на эшафот.
Что поразительно: ни звука — про нынешнее или "вчерашнее". Из памяти всплывает древнее. Тамерлан. Тиберий. Нерон. Цезарь. Савонарола. Торквемада. Не ближе Робеспьера. А в глубь веков — сколько угодно, аж до Авраама, до "разгневанных фурий", до Страшного Суда.
Элементарное объяснение: осмыслить современность, то есть свести счеты с теми мерзавцами, которые упекли Баркову в лагерь,— за такую попытку можно и новый срок схлопотать. Даже если что и складывается,— ни записать, ни прочесть никому нельзя. Но эта, внешняя причина, думается, не единственная, а есть и внутренняя: невозможно понять смысл этой реальности. Кроме одного: что между лагерем и "волей" нет большой разницы.
Это страшное открытие подтверждается в 1940 году, когда, отмотав срок по полной, вчерашняя арестантка выходит на свободу и начинает мотаться за чертой "сто первого километра", пытаясь найти жилье и работу. Война застигает ее в Калуге, там же мыкается она и при оккупантах. Освобождение предстает в облике армейских особистов, проверяющих, не сотрудничала ли с немцами. Л.Таганов объясняет: "вероятно, сам ее вид противоречил представлениям о "предательстве", и ее "скоро отпустили".
Отпущенная голодает, мыкается по углам, ходит в обносках, стоит ночами в очередях за хлебом. Два стихотворения, написанные в тот "вольный" период рисуют грязь, отчаяние, кровь, навоз и "взрывы бомб", отчетливо переводящие стрелку беды с лагеря на оккупацию, а больше — на послевоенную бытовую жуть. Пушкин и Шекспир посрамлены в своей гармонии. Тьма низких истин перечеркивает всякую попытку что-то лепетать про возвышающий обман. Муза немеет.
Поэзию вытесняют другие жанры. В панических письмах довоенным знакомым звучит мольба прислать несколько рублей на пропитание. "Пока вы, канальи, гуляли по Москве, пили пиво и вкушали "съедобу" (термины ваши я помню), я "загибалась" (это уже лагерный термин) в степях и сопках Казахстана ради прекрасных глаз теперь уже, к счастью, покойного Генриха Григорьевича Ягоды. Как жаль, что его не расстреляли шесть лет назад…" Так впервые современная реальность прорывается на бумагу. "Над чем посмеешься, тому и послужишь". С урками в зоне были, как правило, великолепные отношения, а с "белокровной интеллигенцией" в том же лагере — не получалось. Как связать все это в единую картину мира?
"Во что верю я сама? Ни во что. Как можно так жить? Не знаю".
Дневниковые записи по силе и горечи не уступают стихам. Но стихов нет. И лишь когда по очередному доносу в ноябре 1947 года Баркову отправляют во вторую "ходку" — на 8 лет, и из ненавистной Калуги она попадает за колючую проволоку в приполярную Абезь, — муза вновь обретает голос.
Скука смертная давит на плечи,
Птичьи звуки в бараке слышны.
Это радио. Дети лепечут,
Дети нашей счастливой страны.
Из детского лепета возникает образ "волшебной страны", где есть "чудесная тюрьма", где "кормят белым хлебом", где "нищие на всех углах, и где их прочь не гонят, где с панихидами в гробах задаром всех хоронят".
Чтобы прокомментировать убийственную, гейневскую "невозмутимость" этой интонации, надо вдуматься в то, что из трех арестов, выпавших на долю "антисоветчицы" Анны Барковой, ни один не предпринят по разнарядке сверху, от власти, а все — после доноса "сбоку": от товарищей на вечеринке (в 1934 году в Москве), от квартирной хозяйки (в 1947 году в Калуге), от соседей по дому (в какой-то заштатной луганской Штеровке, в 1957 году, когда уже не то что Ягоды, но и Сталина на этом свете нет). А реальность продолжает жить и жалить по тем же правилам. В этом случае все, что случается, приходится принимать уже как фатум.
Ужас принимает черты статистической обыденности. Душа согласно кивает: "Ну, что ж, я устроена. Есть у меня паек и теплые нары". После срока еще один кивок — прощальный: "Свобода! Свобода! Свобода! Чужие дома. Тротуары. Всё можно: хоть с камнем в воду, хоть Лазаря петь — на базары".
Зона лагерная становится зоной неслыханной внутренней свободы, тайной, как завещали Пушкин и Блок. Душа обретает голос, завершая скитанье. Поэзия взлетает, охватывая мир как целое. Но и разум попутно сводит счеты.
Счеты с мировой историей. Они доведены, наконец, со времен Дантона и Робеспьера (и, конечно, Кромвеля, которого когда-то преподал "моей Анюте" Луначарский) — до времен первых марксистов. Этих, пишет Баркова, "и среди европейских странствий била страшная русская дрожь", но от них не открещивается: все это "наши проекты". Готовя миру "чертеж для веры", ее великие учителя проектируют "правду", неотличимую от "лжи"; это уже не столько мечтатели-романтики, сколько "страстные шахматисты, математики, игроки". Вера Фигнер задыхается от поздней зависти к народовольцам, к Софье Перовской — "и к веревке ее, и к столбу".
Но не вы, не они. Кто-то третий
Русь народную крепко взнуздал,
Бунт народный расчислил, разметил
И гранитом разлив оковал.
Он империю грозную создал,
Не видала такой земля.
Загорелись кровавые звезды
На смирившихся башнях Кремля…
Тут история Руси Советской доведена уже не до нашего отечественного Кромвеля ("шахматиста и игрока"), нет, ближе. И, кажется, впервые внутренняя цитата (излюбленный прием Барковой) цепляет не давно пролетевшие крылатые строки (как когда-то, в далеком 1925 году: "Панихидой поп приветит, а погост весной в цвету. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету") — уже не Яков Полонский помогает лирической героине обозначить свое мироощущение, а Лебедев-Кумач, бард Державы, жители которой, ночь пробдев в ожидании ареста, "утром встают… под глазами отеки. Но страх ушел вместе с ночью. И песню свистят о стране широкой, где вольно дышит… и прочее".
Обнажается базис, завершается абрис псевдобытия.
Ничего не вернуть. И не исправить. "Сожжены корабли. И в этом ты сам повинен. Лишь в мечтах — очертанья блаженной земли, а берег вокруг пустынен". Танцующий момент мира, подпаленного когда-то пламенной бунтаркой, окончательно переходит в реквием самосожжения.
А разум честно продолжает противостоять абсурду, ищет спасительных антиномий. Взгляд в сторону "врага": Германия, страна трезвого рассудка. Прусский дух, железный канцлер. За ним — "дьявольский юнкер", вытягивающий в струнку немецких рабочих (точнее было бы: ефрейтор).
По контрасту — Русь, сквозной образ барковской лирики 50-х годов. Русь свирепая и дурная, путающаяся загадками и не желающая отгадок, перемешавшая Византию и Иудею, истоптанная татарскими лошадьми, сбитая с толку чужими ученьями. Гуляет по Руси — "царь Иван", мечтающий править, сидя на печи, он же Иван-дурак, он же — вечный юрод, он же — вечевой горлопан, правящий один день "в очередь" с такими же горлопанами и не замечающий, как на него надевают ошейник.
Во всем этом много олеографической поддельности, портящей стихи, но есть и острый нерв иронии: когда дурачка "сглазили", и он "понемножечку стал умнеть", то и получился из него некто седенький, старенький, носит он лакейский потрепанный фрак, но во фрак стучит сердце, и "забыть не может никак…"
Что забыть? То, как, веселенький, царство свое поджигал да приплясывал?
Я — шут. Но почему-то невеселый.
Да ведь шутов веселых вовсе нет.