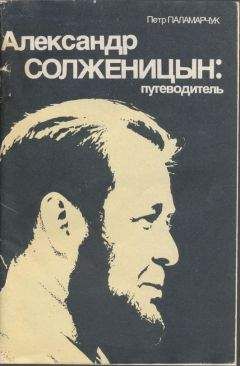Газета День Литературы - Газета День Литературы # 87 (2004 11)
вниз головой в пучину вод.
Одни — могучие орлы
способны на такой полет.
Я прыгнул, я не задрожал.
И незачем себя жалеть!
Жить надо, как герой сказал:
не победить, так умереть!
***
Рассердилось море не на шутку, —
для начала — раннюю побудку
мне сыграло ревом штормовым,
а потом — накрыло с головою
пятибалльной, черною волною, —
хоть взывай к спасателям родным.
Только море про меня не знает...
И животным ревом оглушает
и нещадно топит вновь и вновь, —
но, не покоряясь круговерти,
принимаю вызов, как бессмертье,
принимаю вызов, как любовь.
***
Дрожало — полночное море
лежало покорно — у ног.
И — не было слова для ссоры,
и — не было слез для тревог...
Звучали народные песни...
Растроган мелодией их,
подумал: а что будет, если
в ответ прочитаю я стих.
Сомненья развеялись тут же,
едва я закончил читать,
мне греки захлопали дружно
и стали в сердцах обнимать.
И небо над нами сияло
звездами, что дружно зажглись,
душа, как поденка, порхала
и верила — в лучшую жизнь.
ПОЕДИНОК
Два дня стихии не смирялись,
слова тонули в реве их,
и мы друг с другом объяснялись
на языке — глухонемых...
Кто победил в борьбе суровой,
мы знать, наверно, не должны...
Но вдруг проснулись не от рева,
а от безмерной тишины.
Был ветр послушен, как ребенок,
не слышен был морской прибой...
И лишь обломки старых лодок
напоминали нам про бой.
***
Моим моленьям море вняло,
к утру — устало бушевать,
и на волнах меня качало,
как в зыбке дорогая мать.
И с высоты небес высоких,
как колыбельная, звучал
напев рассветный, одинокий,
и я — невольно засыпал.
Моя тревога отступила,
сны были легкие, как бриз,
как будто воля высшей силы
их для меня послала вниз.
***
Море сегодня мирное, но соленое-соленое настолько,
что вкус и летучий запах йода с трудом ощущаю.
Во рту непривычно вязко, муторно, остро и горько,
хочется пить, но пресную воду взять забываю.
Волна накатывая, меня облизывает с головы и до ног,
облизывает вкусно, будто котенок жирную миску...
Чайки — то усядутся на влажный, зернистый песок,
то круто поднимутся в небо, что синей василиска.
Впервые за долгую жизнь могу лежать, ни о чем не думая
и все-таки нет-нет да подумаю снова хотя бы про то,
как много бывает от моря тяжелого, долгого шума, —
и он меня утомляет, причем, как никто и ничто.
***
Пойду ли к морю веселиться,
поеду ль в град Ираклион, —
повсюду радостные лица
встречаю на пути своем.
На сто вопросов — сто ответов,
и каждый — полный, с теплотой.
Как будто горести и беды
прошли далеко стороной...
Но я-то знаю, что едва ли
отыщется другой народ,
который так бы мордовали
из века в век, из рода в род.
Но здесь под небом чужедальным,
хранимый светом русских звезд,
я за народ многострадальный
произнесу высокий тост.
Душа надеждою искрится,
что и когда домой вернусь,
я каждому, кто обратится,
и — помогу, и — улыбнусь.
Лев АННИНСКИЙ АННА БАРКОВА: "КРОВАВЫЕ ЗВЕЗДЫ НА СМИРИВШИХСЯ БАШНЯХ..." (Из цикла “медные трубы”)
Ее имя, сверкнувшее на небосклоне молодой советской поэзии, потом выжженное оттуда каленым железом и лишь после ее смерти возвращенное в литературу, собственно, имя сразу связалось с Ахматовой, и это понятно уже хотя бы потому, что эта Анна оказалась воспринята именно как антипод той Анны. Но фамилия! Не дьявольская ли шутка — получить фамилию знаменитого охальника ХVIII века, автора и героя чуть не всех скабрезностей русской лирики, не имея с ним ничего общего!
А может, дьявол как раз и разыгрывает такое?
На самом-то деле ее фамилия — из семейных преданий — Боркова. Что-то лесное, глубинное, напоенное темной влагой. Что-то волжское. Барковыми ее родители стали, когда из бурлацких далей жарким ветром цивилизации вынесло их в городскую жизнь. Среди чадящих фабричных труб дети в семье умирали: четыре сына — четыре гроба. Пятого ребенка приняли уже без радости и растили без надежды. Но маленькая рыжая девочка выжила.
О своих предках и вообще родственниках она вспоминать не любила. Деда еще как-то признавала: "дед убивал быков". Отца же, работавшего сторожем при гимназии, с усмешкой называла "швейцаром", уточняя, что "от лакея недалеко". Похоронив родителей, в опустевшем доме даже наездами бывать не хотела. "Последнюю родню": дядю и тетю в Кинешемском уезде — не навещала: скучно со "старыми хрычами".
От "предков" — ощущение пустоты. В 1917 году написала что-то вроде гимназического сочинения (между прочим, блестящий текст) на тему Достоевского: "Признания внука подпольного человека". (С этого момента автор "Записок..." — главный собеседник на всю жизнь: счеты со Всевышним, право бунтующей души…).
"Всё относительно и всё ложно, всё есть и ничего нет",— пишет подпольщица.
Финал монолога:
"А все-таки так, без всего, можно ли жить?..
Ну-ка, мои предки...
Не назову моих предков. Всё, всё надоело!"
Через полтора десятилетия, уже отстажировавшись у Луначарского, уже покрутившись в московских интеллектуальных кругах: "Наши предки играли с огнем..." Это уже вполне осознанный разрыв со всем коммунистическим, большевистским, советским.
А на переломе (1924 год: Луначарский еще не указал на дверь, но вот-вот укажет) разрыв с предками, еще не объясненный идейно, уже пережит эмоционально и поэтически реализован очень убедительно:
Под какой приютиться мне крышей?
Я блуждаю в миру налегке,
Дочь приволжских крестьян, изменивших
Бунтовщице, родимой реке.
Прокляла до седьмого колена
Оскорбленная Волга мой род,
Оттого-то лихая измена
По пятам за мною бредет...
Ситуация, избранная судьбой для изменницы, то есть место и время рождения Анны Александровны Барковой,— Иваново-Вознесенск, первый год ХХ века. В советском контексте — город героической судьбы: пролетарский бастион, родина первого Совета. В другом контексте — несколько иная репутация: русский Манчестер. Родина террориста Сергея Нечаева, — напоминает ивановский литературовед Леонид Таганов, авторитетнейший знаток, исследователь и издатель Анны Барковой,— и продолжает список знаменитых земляков: Аполлинария Суслова — роковая любовь Достоевского… Константин Бальмонт — огненный провозвестник декаданса… "Люди в этом городе становятся… подвижными, нервными, злыми".
Сама Баркова, оглядываясь из тьмы лет на свое сияющее детство, вспоминает, как "фабричной гарью с младенческих дышала дней. Жила в пыли, в тоске, в угаре среди ивановских ткачей… Там с криком: "Прочь капиталистов!" хлестали водку, били жен. Потом, смирясь, в рубашке чистой шли к фабриканту на поклон. "Вставай, проклятьем заклейменный!" — религиозно пели там. Потом с экстазом за иконой шли и вопили: "Смерть жидам!"
А впрочем…
"А впрочем, в боевых отрядах рабочей массы был народ, который находил отраду, читая "Правду" и "Вперед"…