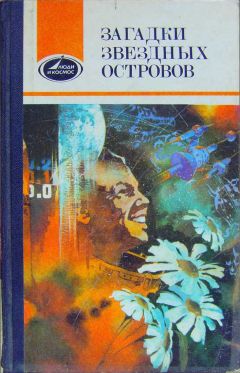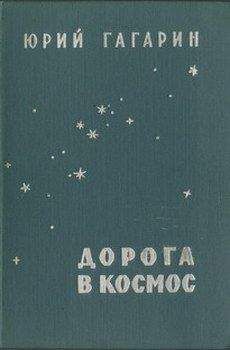Мэлор Стуруа - С Потомака на Миссисипи: несентиментальное путешествие по Америке
На месте дворца Джеймса Фэйра, известного по кличке Бонанза Джим, он сколотил свои миллионы на серебряных рудниках Невады, соорудили отель его же имени. Отель напоминает «Диснейленд», но только не для тысяч детей, копающихся в песке, а для десятка взрослых, купающихся в золоте. Флорентийские витражи и зеркала XVI века, римский Колизей в миниатюре и театр на… двадцать мест! Ни я, ни мой спутник не смогли достать билеты в этот мини-театр макси-зрителей. А жаль. Пропала возможность наглядно продемонстрировать ему, почему здесь бархат театральных кресел не прохудился от классовых трений и почему отсутствие лож и галерки еще далеко не свидетельствует о равноправии.
Не пощадило землетрясение и дворец Коллинса Хантингтона. И вновь землевладение взяло реванш. Здесь был разбит великолепный парк. Хантингтона, разумеется. Лишь на месте владений Леланда Стэнфорда оказалось общественное здание — суд. Исчез и замок Чарльза Кроккера. Его доконал пожар, вспыхнувший вслед за землетрясением. Тут землевладение вступило в далеко не святой альянс с религией и масонством. (Где доллар и меч Фемиды, там недалеко и крест.) В результате над Ноб-хиллом был воздвигнут Храм масонов — эдакая гигантская масонская ложа, из которой «набобы» наблюдают за спектаклем, разыгрывающимся по их режиссерскому сценарию там, внизу, в смертном, простонародном и разнородном Сан-Франциско.
Напротив храма вонзился в поднебесье кафедральный собор Грэйс — резиденция главы епископальной церкви Калифорнии. Собор велик, как грехи церкви. Его главный вход — копия «Врат рая» — творения флорентийца Джиберти. На западной башне собора сорок три колокола, так сказать, по колоколу на каждый холм Сан-Франциско. Но звонят они подозрительно мелодично, монотонно-мелодично, так что невозможно отличить пресыщенную одышку Ноб-хилла от голодных спазм Поверти-хилла. Религия — лиса!
Где церковь, там и крысы. Коль скоро речь зашла о церквах, поговорим и о крысах. Как раз в день моего приезда в Сан-Франциско — 10 апреля — газеты сообщили, что нашествие на город этих длиннохвостых, продолжающееся вот уже почти двадцать лет, несколько ослабло, замедлилось, во всяком случае, временно. Нашествие сие носит весьма любопытный характер, по крайней мере для нас, непосвященных, неспециалистов. Как пояснил некто Филип Даффи, представитель департамента здравоохранения городского муниципалитета, в нашествии принимают участие два вида крыс — «кровельные» и «норвежские». Первые, сказал мистер Даффи, атакуют, как правило, зажиточные кварталы. Поэтому их и называют «крысами богатых людей». Вторые — они крупнее, злее и уродливее, если вообще можно применять подобные «эстетические» категории к крысам, — промышляют в районах бедняков. Первых манят усадьбы, где на земле валяются спелые плоды и орехи, где стены оград и домов увиты плющом, где владельцы щедро пичкают породистых собак. Вторые промышляют на задворках, роясь в мусорных кучах, заползая в обветшавшие здания, покушаясь на младенцев в колыбелях, «Норвежские крысы», продолжал мистер Даффи, появились с открытием в Сан-Франциско морского порта, «кровельные» несколько позже. Они, видимо, перекочевали из богатых районов Лос-Анджелеса и Пасадены.
Я вырезал интервью мистера Даффи из газеты «Сан-Франциско икземинер» и при первом же удобном случае показал его моему Вергилию.
— По-видимому, ваши крысы лучше разбираются в классовой чересполосице холмов Сан-Франциско, чем некоторые публицисты и социологи.
Он натянуто улыбнулся.
— Допустим, Но и те и другие одинаково опасны для здоровья людей, одинаково разносят эпидемические заболевания.
— Положим. Мистер Даффи придерживается на сей счет несколько иного мнения. Но суть дела даже не в этом. Если равенство обитателей Ноб-хилла и Поверти-хилла перед землетрясением и чумой и есть идеал американской демократии, то, извините, вы не слишком уж далеко ушли от европейского средневековья.
Разговор происходил в выносном лифте новенького, с иголочки, 29-этажного небоскреба, недавно воздвигнутого на Ноб-хилле на бывшей территории «Бонанзы Джима». С его вышки открывается круговая панорама залива Сан-Франциско. К северу от Сан-Франциско сквозь радугу моста «Золотые ворота» видны очертания графства Марин. Там тюрьма Сан-Квентин, где за решеткой томится заключенный № Б40319, он же Элмер Прат, — негр, активист, приговоренный к пожизненному заключению за свои политические взгляды, неугодные обитателям расистских холмов. И он не один такой в Сан-Квентине (на сей раз власти меня туда не пустили). Сан-Квентин… Здесь был убит «при попытке к бегству» славный сын негритянского народа Джордж Джексон. Его «дело» было использовано для организации судебной расправы над Анджелой Дэвис. Она удостоилась высшей чести в современной Америке. Покойный Гувер занес ее имя в список десяти «наиболее опасных разыскиваемых преступников». Сейчас Анджела живет в Окленде и преподает в Институте искусств Сан-Франциско на Честнат-стрит. При некоторой силе воображения отсюда, с высоты небоскреба, можно разглядеть и Окленд, когда-то столицу «Черных пантер», ставшую затем для многих из них братской могилой. Тех, кого миновала Фемида, пули полицейских настигали на улицах холмов бедноты.
Жители Сан-Франциско называют лифт небоскреба «Бонанзы Джима» «термометром». Издали кабинка лифта, скользящая вверх по застекленной шахте, напоминает ртутный столбик термометра. Я взглянул на своего гида. Даже сквозь постоянный калифорнийский загар его лица чувствовалось, что мой чичероне побагровел. Температура в лифте явно накалилась, хотя кабина скользила по «термометру» не вверх, а вниз. Но лифты небоскребов на Ноб-хилле, как и склоны холмов в Сан-Франциско, подчиняются особым законам, весьма далеким от законов природы и еще более — от законов, провозглашенных в Декларации независимости и Конституции США, подлинники которых хранятся под пуленепробиваемым и светонепроницаемым стеклом в здании Национального архива в Вашингтоне.
Сан-Франциско — Вашингтон.
Апрель — май 1978 года
Сто дней без святой Елены
Местечко Пайквиль находится в одном из восточных графств штата Кентукки. Оно расположено на холмах глубинки Аппалачии, сказочно богатой залежами угля, сказочно богатой и бедной одновременно. Вот уже сто дней в Пайквиле не добывают уголь. Вот уже сто дней в Пайквиле добиваются справедливости. Уголь для этих людей — хлеб, жизнь. Уголь для этих людей — чума, смерть. У него, у угля, больше граней, чем у бриллиантов и алмазов, и не все из них сверкают даже на солнце. Грани эти социальные, классовые. Сегодня в их сверкании преобладает гнев. И решимость. И солидарность.
— Армии не могут добывать уголь. Президентские указы не могут добывать уголь. Суды не могут добывать уголь. Только шахтеры могут добывать уголь. Этому учит нас история забастовочного движения в Аппалачии. Поэтому, пока мы не добьемся своего, угля не будет, — говорит с хрипотцой в голосе пожилой шахтер.
Десятилетия, проведенные в забое, изъели его лицо черной мозаикой, навсегда забили легкие угольной пылью.
— Мы боремся за самые изначальные права, за выживание, за наше здоровье, пищу, одежду, — продолжает шахтер, — Вот почему мы едины, как никогда. Контракт, который нам навязывают, годен только на то, чтобы разорвать его в клочья. Это понятно даже мне, неграмотному.
Едины, как никогда… Вот, пожалуй, главный секрет успеха забастовки членов Объединенного профсоюза шахтеров (ОПШ), самой длительной в истории этого профсоюза, всегда шедшего в авангарде американского рабочего движения. Газеты пишут, что забастовка потрясает всю страну. Да, потрясает, но разных людей по-разному. Одних угрозой их прибылям, других — мужеством забастовщиков.
Едины, как никогда… Люди перешли на продуктовые марки-купоны, перестали посещать врачей, прекратили платить взносы за приобретенные в рассрочку предметы. Но, как ни странно, приобретений больше, чем потерь. Забастовка спаяла людей. Они прощают друг другу старые обиды. Воссоединяются семьи. Исчезает пресловутая пропасть между поколениями. Старики пенсионеры делятся с забастовщиками своими крохами, которые они получают по социальному обеспечению за «черные легкие». Такова традиция. Молодежь приумножает ее, свято верная заветам своих отцов.
— Я хочу работать, поверьте мне. Я так сильно хочу работать, что это причиняет мне даже физическую боль. Но я не могу нарушить пикеты. Ведь мой отец с детства был под землей. Если бы я голосовал за контракт, который сварганили там, наверху, то отец поднялся бы из своей могилы и устроил бы мне роскошную взбучку. Если я не буду бороться за то, за что сложил голову мой отец, это будет означать, что прожил он жизнь свою зря, — говорит Поль Фаулер, молодой забойщик с шахты «Старина Бен» в Малкитауне, штат Иллинойс.