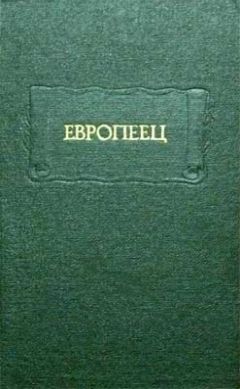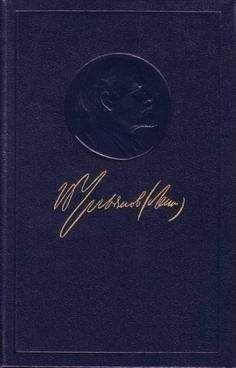Иван Киреевский - Европеец
Н. Языков
VII. Н. М. Языкову
Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета[1],
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы Музы молодой.
Е. Баратынский
VIII. Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года (Окончание)
Чтобы не заговориться еще долее об этой картине, быстро оборачиваюсь к другой, на которой написано имя Лесора[1] и которая привлекает каждого роскошью своей простоты и скромности, и чудесною верностью изображенного. Она поставлена в росписи под названием «Старший брат». На бедном чердаке лежит на бедной постеле больной мальчик и томящимся взором глядит на деревянное распятие, к голой стене прикрепленное; у ног его сидит другой мальчик, с потупленными глазами, заботливо печальный. Его коротенький камзольчик, его исподнее платье, хоть чисты, но толстое сукно несколько раз меняло свои заплаты. Желтое байковое одеяло на постеле и не мебель, а недостаток мебели, показывают горькую нищету. Отделка совершенно прилична предмету. Она напоминает нищих на картинах Мирльо[2]. Редкие тени; твердые, вольные, строгие черты; краски не наскоро наброшены, но положены со смелым спокойствием; странная туманность, без мутности; одним словом, то, что Шекспир называет the mode of nature14* [3]. Эта картина, окруженная другими блестящими в сияющих золотом рамках, тем разительнее производила действие, что поставлена в старой раме с потертым тусклым золотом, во всем согласующимся с тоном картины. Гармоническим своим явлением, противоположностью со всем ее окружающим она на каждого зрителя делала впечатление сильное, меланхолическое, наполняя душу каким-то невыразимый сожалением; казалось, будто мы на минуту оставили ярко освещенную гостиную, веселое общество, а на темной улице столкнулись с собратом в изодранных лохмотьях, который жалуется на мороз и голод. Эта картина немногими чертами говорит много и больше еще возбуждает в душе.
Шнец[4]Известное имя. Признаюсь, однако, что я не с таким удовольствием его называю, как предыдущее, меньше известное в мире искусства. Он пишет хорошо, но, по моему мнению, не хороший живописец. Большая его картина на нынешней выставке «Итальянцы пред образом Мадонны, вымаливающие чудо-творение» имеет много превосходных частностей, особенно мальчик, одержимый судорогами, прекрасно нарисован. Большое мастерство заметно во всем техническом, но вся картина скорее сочинена, нежели живописана; фигуры как будто декламируют на сцене, нигде нет внутреннего взора, своебытности, единства. Шнец выражается многосложными штрихами и то, что выразил, всегда почти лишнее. Великий художник может, также как и посредственный, сделать что-нибудь дурное, но никогда не сделает лишнего, пустого. Высокое стремление, твердая воля почтенны и в посредственном таланте, но это почтение не заглаживает недостатков его произведений. В гении высокопарящем нам нравится именно уверенность, с какою он лепит: чем больше мы убеждены в могущественной силе его крыльев, тем более радуемся его возвышению, тем охотнее душа наша возносится за ним к чистому солнцу возвышенного искусства. Совсем не такое действие производят театральные гении. Мы видим веревки, которые тянут все вверх, каждую минуту опасаемся падения и смотрим на их возвышенность с боязненным недовольством. Может быть, веревки, на которых вешает Шнец, слишком тонки, может быть, гений его слишком по них тяжел; как бы то ни было, он не возвысил души моей, а придавил несколько ниже.
Шнец в выборе предметов и в выработке их много имеет сходства с одним живописцем, которого часто вместе с ним называют и который в нынешней выставке. не только его, но и всех почти соперников далеко перелетел и получил в награду орден Почетного легиона.
Роберт[5]Исторический ли он живописец или peintre de genre15*? — спросит у меня немецкий цех мастеровых? По несчастию, не умею отвечать на этот вопрос и должен сам немного вразумиться в неразумное выражение, чтоб однажды навсегда отклонить все могущие случиться недоразумения. Различие между историей) и жанром так бестолково, что кажется, будто изобретено художником, трудившимся при Вавилонском столпотворении. Между тем выдумано оно позднее. В первом периоде искусства была одна только история, то есть представления из священной истории. Потом назвали именем исторической живописи не только картины, взятые из Библии или легенд, но и те, которых предметы взяты из светской истории или языческого баснословия, и этим названием отличили их от картин, изображающих жизнь частную. Последняя живопись родилась в Нидерландах, где протестантизм отбросил предметы католические и мифологические, где не было для последних ни образцов, ни понятия, где многие образованные живописцы искали себе работы и многие обожатели искусства охотно покупали картины. Различные представления вседневного были названы различными genre.
Многие живописцы передали нам юмористические частности домашней жизни, по техническое мастерство сделалось, к сожалению, главным их старанием. Все картины того времени имеют для нас интерес исторический. В картинах Миериса[6], Нетшера[7]; Ван-Стена[8], Ван-Дау[9], Вандер-Верфта[10] и пр. чудесным образом открывается перед нами дух того времени; мы смотрим на шестнадцатый век[11], как будто в окошко, подслушиваем занятия и костюмы нидерландские. Живописцы могли быть довольны костюмами: одежда крестьянина довольно живописна, а одежда мужчин среднего состояния была красивое соединение нидерландской непринужденности с испанскою величавостью; одежда женщин — смешение всесветной прихотливой пестроты с отечественною флегмою; напр., Mynherr16* в бургундской бархатной мантии, в пестром рыцарском берете держал глиняную домашнюю трубку во рту; Mifrow17* в тонком венецианском двуличневом атласном платье с хвостом, в брисельских кружевах, в африканских страусовых перьях, в русском мехе, в восточных туфлях, держала в руках андалусскую мандолину, или муфту, или темношерстную собаку сардамской породы; прислуживающий маленький араб; турецкий ковер; пестрые попугаи; иноземные цветы, огромная серебряная и золотая посуда с вытиснутыми арабесками, все это придавало сырной голландской жизни отблеск восточной сказки.
Когда искусство, уснув надолго, наконец пробудилось, то художники в великое пришли замешательство от выбора предметов. Симпатия к предметам древним исчезла, а костюмы современников слишком неблагоприятны для живописца. Наш фрак столько имеет в себе прозаического, что может войти в картину только как пародия.
Я не люблю фрака; живописцам также он не нравится, и они принуждены отыскивать себе других костюмов красивее. Это, вероятно, усилило пристрастие к предметам историческим, и в Германии есть теперь школа, которая только тем и занимается, чтобы людей нового фасона, с новыми чувствами, с новой физиономией одевать в старинные костюмы из кладовой исторических и феодальных времен. Другие живописцы нашли другое средство избегать фраков; они избирают предметами изображений своих такие народы, у которых наступающая образованность еще не отняла ни оригинальной физиономии, ни национальной одежды. Оттуда сцены из Тироля, которые так часто встречаются на картинах мюнхенских живописцев: горы тирольские к ним так близки и костюмы тирольцев столько живописнее наряда наших fashionable18*! Та же причина размножает у нас эти светлые, веселые изображения из народной жизни в Италии, которая также недалека от живописцев, особливо от тех, которые живут в Риме: там и природа благороднее, и человек красивее, и костюм живописнее.