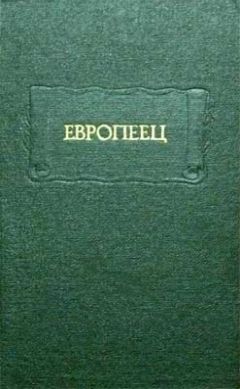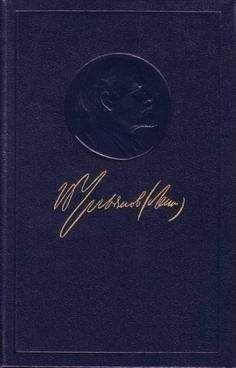Иван Киреевский - Европеец
Но католицизм в новой Франции не только угас, но даже не оставил и возвратного влияния на искусство, как у нас в протестантской Германии, где поэзия, живущая во всем прошедшем, дала ему новую значительность. Может быть, тайная злопамятность мешает французам ценить католические предания, между тем как у них возникает сильное участие ко всем другим явлениям истории. Это замечание я могу доказать фактом, который обратно можно пояснить этим замечанием. На выставке нынешнего года число картин, изображающих христианские предметы из Ветхого и Нового Завета, из преданий и легенд, так невелико, что многие подразделения различного рода светских картин и многочисленнее и лучше. По точному счету я вижу между тремя тысячами нумеров каталога не больше двадцати девяти священных картин, между тем как одних картин, представляющих сцены из романов Вальтера Скотта, считается слишком тридцать.
Картина, выставленная Деларошем[20], вызывает на историческое сравнение. Вечно будут проводить параллельные линии между Лудвигом XVI и Карлом 1-м, между Кромвелем и Наполеоном. Скажу, однако же, смело, что последних несправедливо сравнивают между собою. Наполеон не был осквернен кровию священной. (Казнь герцога Энгиенского[21] просто убийство.) Кромвель же никогда не унизился до того, чтобы велеть беззаконно помазать себя на власть. Жизнь одного замарана пятном крови, жизнь другого пятном священного масла. Оба глубоко чувствовали тайную вину свою. Императорская багряница не принесла счастия тому Бонапарту, который мог быть Вашингтоном Европы и сделался только ее Наполеоном; одна мысль, как призрак умерщвленной матери, преследовала его всюду; везде он слышал ее голос; даже ночью, испуганный, он вырывался из брачных объятий приобретенной своей законности, скорыми шагами обегал звонкие комнаты огромных Тюльери, шумел, сердился, неистовая, — и когда поутру, бледный, утомленный, приходил в государственный совет, то жаловался на Идеологию, очень опасную, на гибельную Идеологию, — а Корвизар[22] важно покачивал головою.
Кромвель также не знал спокойного сна: также ночью бегал по дворцу Вэйтгаля, однако же его преследовал не призрак убитого Короля, как думали набожные царедворцы, а просто страх живых мстителей; он боялся не идей, а кинжалов, и потому под платьем носил всегда панцырь и каждый день становился подозрительнее; а наконец, когда явилась книжка под заглавием «Умерщвление не убийство»[23], то улыбка никогда уже не появлялась на лице Оливьера Кромвеля.
Чем менее сходства между императором Франции с протектором, тем богаче параллель, которую представляют нам ошибки Стюартов и Бурбонов и их государственные последствия. Недостает только, чтобы французский претендент, как некогда английский, возвратился в свою отчизну.
Зрителей Кромвеля невольно занимает разгадка мыслей его при гробе Карла. История двояким образом рассказывает это происшествие[24]. Иные говорят, что ночью, при свете факелов, Кромвель велел открыть гроб и долго стоял перед ним, смущенный, окаменелый; другие уверяют, что он открыл гроб днем, спокойно смотрел на тело и холодно сказал: «Он был крепкого сложения, мог жить еще долго». По моему мнению, Деларош, писавши свою картину, имел в виду последнюю демократическую легенду. Лицо Кромвеля не изображает ни удивления, ни смущения, ни же другого душевного волнения; напротив, зритель поражен его необыкновенным, ужасающим. невыносимым спокойствием: вот стоит перед ним этот человек, твердый, совершенно земной, грубый как событие, сильный без преувеличенья, чудесно обыкновенный, дьявольски естественный. Вне суда и закона и в то же время подчиняющий себя порядку законности, — он смотрит на дело, совершенное им, почти так же холодно, как дровосек на срубленное дерево. Равнодушно ниспроверг он на землю этот величественный дуб, некогда покрывавший своими ветвями Англию и Шотландию; государства, под тенью которых цвели столько красивых человеческих поколений, в которых феи поэзии сплетали лучшие свои хороводы; спокойно ниспроверг он его ненавистным топором, и высокий дуб лежит на земле со всею прелестью лиственной сени своей и с нетронутой святынею своего венца.
Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement21*? Этими словами британец, стоявший за мною, прервал ощущения, болезненно наполнявшие мою душу пока я рассматривал рану Карла на картине Делароша. Кровь изображена слишком ярко, да и крышка гробовая не хорошо обрисована и похожа больше на скрипичный футляр. Все остальное в картине написано мастерски: с легкостью и обдуманностью Вандика, с резкими тенями Рембрандта — и вспоминает именно республиканских воинов на больших исторических картинах последнего: мне напомнило «Ночную стражу», которую я видел в Трипенгуйсе[25], в Амстердаме.
Кисть Делароша, так как большой части современных артистов, подходит к фламандской школе; только врожденная французская грация нежнее обходится с предметами, и французская щеголеватость играет ими красивее и поверхностнее. Делароша можно назвать щеголеватым, грациозным нидерландцем.
Может статься, в другом месте повторяются толки, слышанные мною о картине Кромвеля.
Нигде нельзя послушать больше народных чувств и кипящих настоящим мнений. Картина висела при входе длинной галереи, а подле нее примирительно утешительная картина Роберта. Когда грубо воинственное пуританское лицо, ужасный жнец с королевскою главою, выставляясь из темного грунта, потрясал зрителя и возбуждал в нем все политические страсти, то душа его успокаивалась при взгляде на скромных жнецов Роберта, цветущих под светлым сиянием неба, с невинной, золотой своей жатвой возвращающихся на семейный праздник любви и мира. Когда, глядя на первую картину, мы чувствуем, что земля дрожит под нами, и мы слышим яростный гром бурь, видим зев бездны, жадно глотающей потоки крови, и ужас поневоле смущает нас, — тогда другая картина является с вечною, твердою, спокойною землею, любовно приносящею золотые плоды свои, несмотря на универсальную римскую трагедию со всеми ее гладиаторами, ее кровью, венцами, зверями и рукоплесканьями.
На одной картине видим мы существо, которое глупо валяется в грязи и крови, целые века молчит бессмысленно и вяло, вдруг без постороннего содействия вспрыгивает с бешенством, неистово бушует, без разбора бьет встречного и поперечного; существо, известное под именем: Всемирная История. Другая картина представляет нам ту великую повесть, которая живет в простой хижине, может уместиться и на простой телеге; повесть без конца и начала, вечно повторяющуюся, обыкновенную, как море, как небо, как времена года; повесть священную, воспеваемую поэтами, скрытую в архивах каждого сердца: Историю человека.
Прежнее мое пророчество[26] о кончине периода искусств, родившегося вместе с Гете и с ним долженствующего сойти в один гроб, кажется, скоро исполнится. Искусство теперь цвести не может: его корни до сих пор еще зарыты в отжилом, священном прошедшем римского владычества; потому, подобно всем вялым остаткам сего прошедшего, стоит оно в непримиримом противоречии с настоящим; и это противоречие, а не направление века, вредит искусству. Направление века должно бы ему благоприятствовать. В Афинах, во Флоренции искусство развернуло лучшие цветы свои во время междуусобных войн и беспокойств. Правда, что греческие и флорентийские художники не знали, что такое изолированная, себялюбивая художническая жизнь, что такое праздно поэтическая душа, герметически закупорившаяся от всех великих радостей и скорбей времени; напротив, их произведения были зеркалом их века, сами они были людьми вполне, и столько же сильны, самобытны в действиях, сколько могущественны в созданиях; Фидий, Микеланджело были слиты в одну цельную группу с своими изваяниями; и как их статуи приличны были в греческих и римских храмах, так сами художники верно гармонировали с окружающими обстоятельствами. Они не отделяли своего искусства от ежедневного хода вещей; не могли работать с тем жадным, кабинетным вдохновением, которое вливается в каждый заданный предмет, вклепывается в каждое заданное чувство. Эсхил живописал своих персов с тем одушевлением, с каким сражался с ними на полях Марафона; Данте писал свою Комедию не на заказ среди веселого приволья, но в изгнании, как гвельф, и жаловался не на свое угнетение.
Между тем новая жизнь породит новое искусство, которое будет идти с нею в стройном, вдохновительном созвучии, которое символику свою не станет занимать у поблекшего минувшего, которое изобретет даже новую технику, от прежней отличную, своеобразную.
М. В.[27]
IX. Современное состояние Испании