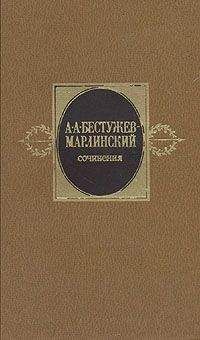Анджей Сапковский - История и фантастика
— В «Божьих воинах» Рейневан все больше увлекается черной магией. Поэтому время от времени появляются описания ее приемов. Откуда вы берете образчики и задумки для сцен такого рода? В средние века вера в черную магию была очень распространена, но не знаю, есть ли у нас какие-либо источники и описания таких магических действий. Думаю, мало что можно взять из показаний, полученных инквизицией под пытками. И, кстати, на чем в своих «допросах» сосредоточивались инквизиторы? Только на том, чтобы выжать из несчастного признания в вине? Или по «советской» методе старались выудить максимум имен «сообщников»? А может, некоторые из них верили в чернокнижие и приказывали истязаемым описывать практические действия как можно подробнее, отсюда мы и знаем что-то конкретное?
— В источниках нет недостатка. Ведь на такое мода не иссякает. Аутентичность порой бывает сомнительной, но кому это мешает?
— «Белая Церковь», или монастырь кларисок, в который попадает Юта де Апольда, возлюбленная Рейневана, в действительности представляет собой что-то вроде «женского университета», как называет его мамун Малевольт. Вдобавок он утверждает, что университетов такого типа гораздо больше, ссылаясь при этом на Хильдегарду Бингенскую, Кристину Пизанскую, Мехтильд Магдебургскую, Беатрис из Назарета, Юлиану из Льежа, Бодонивию, Хадевику Брабантскую, Эльзбет Стангл, Маргариту Порете и Еломардину Брюссельскую. Насколько я понимаю, они были интеллектуальными продуктами такого рода школ? Это не вымышленные имена, потому что по меньшей мере пять из них входят в перечень святых Церкви. Действительно ли в средневековье функционировали монастыри такого типа? Вы можете рассказать о них побольше? Или тут мы уже вступаем в мир литературного вымысла? Если да, то в каком месте?
— Разумеется, это литературный вымысел, но, как говорят историки, он опирается на так называемые «обоснованные предположения». Вы сами отметили, что некоторые из перечисленных женщин — святые или блаженные. Большинство из них были монахинями, многие обучались в монастырях — а где же еще они в средневековье могли обучаться? В монастыри шли женщины и девушки из самых благородных семейств, ведь в описываемые времена — в отличие от «сенкевичских» — заточение в монастырь было не наказанием, не печальным последствием грехопадения или изнасилования, а карьерой. Аббатисы самых крупных монастырей обладали немалым влиянием, в том числе и политическим. А скопление определимого количества образованных и интеллектуальных женщин должно было образовать своего рода «критическую массу», nomen omen, ибо оно часто выражалось в критике церковной иерархии. И в «отклонениях» в сторону вольнодумства — популярно именуемого ересью.
— Работая над «гуситским» циклом, вы, несомненно, задумывались над проблемой языка героев. Мы, к сожалению, не знаем, что представлял собой польский язык, на котором говорили в средневековье и тем более в Силезии, но, вероятнее всего, население этого района свободно переходило с польского на немецкий, а некоторые (например, аристократы или купцы) порой и на чешский. Между тем язык ваших героев в «Башне Шутов» исходит из хорошо усвоенной благодаря «Трилогии» Сенкевича модели польского сарматского языка (стилизация Сенкевича-Пасека), слегка разбавленного германизмами (например, ruck zug[80]) и вкраплениями из силезских говоров (если я правильно уловил). За таким языковым решением должны были стоять определенный расчет и логика. Не могли бы вы их раскрыть?
— Вы правы — о средневековом польском у нас менее чем бледное представление, мы знаем только одно: современному поляку он был бы совершенно непонятен. Антоний Голубев в «Болеславе Храбром» изображал старопольский» так: księcia именовал «księdzem», сына księcia «księzycem», księzic — «miesącem», księdza — «swiątkiem».[81] И так далее. Не будучи столь дерзновенным, как Голубев, я просто последовал за Сенкевичем, причем не ограничился соответствующими эпохе «Крестоносцами», поскольку язык «Трилогии» слишком прекрасен, чтобы от него отказаться. Там, где я счел возможным — либо необходимым — сделать стилизацию, я стилизовал именно «под Сенкевича». Стилизуя, впрочем, мал о и скупо, ибо не люблю стилизацию. Да и кому она нужна? Если нельзя использовать подлинный язык средневековья — а мы уже установили, что нельзя, — так почему бы не воспользоваться современным?
— А правда ли, что прежде чем приняться за работу, вы два или три года изучали район и источники?
— Даже больше. Но делал это вовсе не потому, что намеревался написать монографию о Гуситских войнах. Я изучал документы для того, чтобы потом охватить в сюжете определенные события. Показать моего героя на фоне конкретных моментов истории.
— Интересно, в какой степени приведенная» в книге топография соответствует реальности? Действительно ли, если в «Башне Шутов» около Барда Силезского появляется гора, то она там действительно есть?
— Нет, я бы свихнулся, если б пришлось уточнять такие мелкие детали. Я так строил действие, чтобы наиболее характерные события совершались в местах, которые я видел лично или о которых располагаю достоверными исходными материалами. Поэтому роман начинается в Олесьнице, в которой я бывал и благодаря различным материалам знаю, как она выглядела в средневековье. То же относится к Свиднице и другим местам. Действие второго тома происходит в Праге, которую я посещал много раз и хорошо знаю, а Старый Пражский Град почти не изменился со времен Яна Гуса. У меня есть карты пятнадцатого века, из которых четко следует, что, например, церковь Святого Павла стояла там, где стоит сейчас, а там, где теперь находится Клементинум[82], был монастырь доминиканцев. Это неподалеку от Карлова моста, во времена Гуса именовавшегося Каменным.
— Признаться, чрезвычайно впечатляют ваши описания средневековой Праги, тем более что вы объединяете их с весьма насыщенными — увы, малоприятными — ароматическими картинками, докучающими героям. Несомненно, в те времена города не благоухали розами. Так что силой этих описаний является доскональное знание средневековой иконографии, прекрасное ориентирование в топографии города, а также социологически-урбанистическое воображение. Требуется ли что-либо еще для достоверности такого описания?
— Я полагаю, талант. К тому же, думаю, ясно, что я не взялся бы за описание средневековой Праги, не располагая источниками и материалами. И все же случился у меня небольшой промах — я заставил Рейневана лечиться в больнице ордена стражей Гроба Господня на Здеразе, а такой больницы в то время в Праге уже не было, ее вместе с монастырем спалили еще до прибытия героя в столицу. Переводчик заметил это, читая первую главу, опубликованную «Новой фантастикой». В книжном издании ошибки уже нет. Я сменил эту больницу на существовавшую.
— Значит, вы изучаете старые карты и гравюры, сравнивая их с современным обликом городов?
— Да, если удается их достать. В этом крепко помогает Интернет, в котором свой сайт есть не только у каждого города, но почти у каждой деревушки, даже самой распропащей. Однако проверяю я только то, что важно для меня — например, был ли монастырь и церковь построены каменными, способными выдерживать осаду. Важно для меня также количество жителей, я должен знать названия ворот, ведущих в город, поскольку тогдашние жители, как правило, пользовались ими. Вот такие исследования необходимо было проводить.
— А каков уровень вашего доверия к историческим источникам? Читаете ли вы их как литературу или как добросовестную фактографию? Какой тип хроникерства вы цените?
— К каждому я отношусь немного как к литературе, немного как к политическому и прорежимному манифесту. Например, хорошо знать, кто платил хроникеру за труд и кого он по этой причине должен был отблагодарить. Кого хроникер дарил симпатией, а кого — наоборот. Чтобы далеко не ходить: совсем по-другому читается Длугош, когда знаешь, что он был личным секретарем Збигнева Олесьницкого и относился к шефу-епископу прямо-таки благоговейно. А королеву Сонку не переносил. Из близкого нам времени характерно отношение хроникеров к чешским гуситам, которые при коммунизме от «диких безбожных орд» поднялись до уровня революционного пролетариата, боровшегося за благо народа, угнетаемого панами и попами. С подобным подходом к истории я столкнулся в одном изданном в Москве произведении, где говорилось, что в битве под Грюнвальдом победили смоленские полки. Точно так же мы узнаем от историков, «идущих в ногу со временем», что инквизиция вообще не существовала, а если и существовала, то невинная, барашек. Nihil novi sub sole[83].