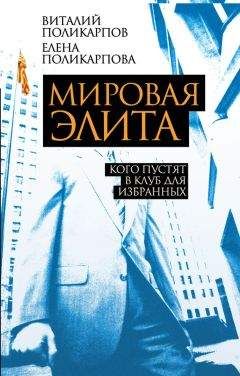Уистан Оден - Чтение. Письмо. Эссе о литературе
Яго обращается с Отелло как психоаналитик со своим пациентом, с той лишь разницей, что он хочет не исцелить, а убить. Все, что он говорит, служит одной цели: донести до сознания Отелло, что все, о чем тот подозревал, свершилось. Поэтому он может и не лгать. Даже его монолог, начинающийся словами: «Я как-то с Кассио лежал… возможно, правдивый пересказ реального разговора, мы знаем характер Кассио и можем себе представить, что он действительно мог видеть такой сон, о котором рассказывает Яго. Даже доведя Отелло до такого состояния, когда ему можно говорить что угодно, не боясь быть пойманным на слове, Яго отвечает уклончиво, предоставляя Отелло домысливать продолжение:
Отелло
Но все-таки…
Яго
Он говорил…
Отелло
Итак?
Яго
Что он лежал…
Отелло
С кем? С ней?
Яго
Да. Нет. Увольте[51].
Никто не может представить Леонту доказательств, что его подозрения беспочвенны. Точно так же и у Отелло (к этой мысли его постепенно подводит Яго) нет никаких доказательств, что Дездемона на самом деле такая, какой кажется.
В первый раз Яго намекает на это, когда со знанием дела рассуждает о венецианских нравах и попутно напоминает Отелло, как Дездемона обманула бдительность отца.
Яго
Я вдоволь изучил венецианок!
Лишь небу праведному видно то,
Чего мужья их не подозревают.
Стыда в них нет, лишь след бы замести.
Отелло
Ты вот о чем?
Яго
А что ж, супруга ваша
Другая, полагаете? Она
Отца ввела пред свадьбой в заблужденье.
Сгорала к вам любовью, а сама
Прикидывалась, что терпеть не может.
Отелло
Да, это так.
Яго
Вот я и говорю:
Когда до брака так она хитрила,
Что дело представлялось колдовством,
Что ж после брака?[52]
А чуть позже он прямо говорит о разнице между нею и мавром:
Естественно ли это отчужденье
От юношей ее родной страны?
Не поражают ли в таких примерах
Черты порока, извращенья чувств?
Я это отношу не к Дездемоне,
О ней определенных данных нет.
Но есть опасность, как бы отрезвевши
И сравнивая вас и земляков,
Она не пожалела[53].
Теперь, когда Отелло засомневался в искренности Дездемоны, ее правдивые ответы не уменьшат его подозрительности, а ложь в ее устах лишь подтвердит его правоту. Этим объясняется тот страшный эффект, который производят ее слова, когда она отказывается признать, что потеряла платок.
Разуверившись в ней, Отелло не может больше верить никому и ничему, и в чем она конкретно провинилась, значения не имеет. В сцене, где Отелло прикидывается, будто замок — это бордель, а Эмилия — его хозяйка, он обвиняет Дездемону не в том, что она изменяла ему с Кассио, а в том, что будто бы участвовала в каких-то невообразимых оргиях.
Дездемона
Скажи, в чем грех мой? Что я совершила?
Отелло
Ты для того ль бела, как белый лист,
Чтоб вывести чернилами: «блудница»?
Сказать, в чем грех твой, уличная тварь,
Сказать, отребье, что ты совершила?
Стыдом я щеки раскалю, как горн,
Когда отвечу. Выговорить тошно[54].
И, как указывает Элиот, в своей прощальной речи он говорит не о Дездемоне, а о своей любви к Венеции и в самом конце представляет себя чужестранцем, турком-мусульманином, который «бил венецианца и поносил сенат»[55].
Дездемону все жалеют, но я вот никак не могу полюбить ее. Ее намерение выйти замуж за Отелло, — ведь, по сути, именно она сделала предложение, — похоже на романтическое увлечение школьницы, а не на чувство взрослого человека: необыкновенная жизнь Отелло, полная удивительных приключений, пленила ее воображение, а что он за человек — это было для нее не так важно. Он мог и не прибегать к ворожбе — она и без того была очарована. И пускай Брабанцио полон предрассудков, ее обман не делает ей чести, и Шекспир не дает нам забыть об этом: мы узнаем, что отец ее умер вскоре после свадьбы Дездемоны — такой это был для него страшный удар.
К тому же она самонадеянно считает, что оказала Отелло большую честь, став его женой. Когда Яго говорит Кассио: «Настоящий генерал сейчас у нас генеральша», а затем произносит монолог:
Для нее
Умаслить мавра ничего не стоит.
Она его вкруг пальца обведет[56],
он, конечно, преувеличивает, но в его словах есть и доля правды. До того, как Кассио обращается к ней за помощью, она уже говорила о нем с Отелло и знает, что при первой же возможности Кассио восстановят в должности. Чуткая жена передала бы ему эту новость и предоставила бы делу идти своим чередом. Продолжая упрашивать Отелло, она словно пытается доказать себе и Кассио, что может заставить мужа сделать все, что ей заблагорассудится.
То, что она лжет, когда Отелло спрашивает ее, где платок, само по себе не так уж страшно: здесь нет злого умысла, но, если бы она видела в муже равного себе, она бы сразу призналась в том, что потеряла платок. Но она испугана: внезапно она столкнулась с человеком, чьи чувства и суеверия ей чужды и непонятны.
Ее отношения с Кассио вполне невинны, но все же нельзя не согласиться с Яго, когда тот высказывает сомнения относительно долговечности ее брака. Стоит отметить, что в сцене с Эмилией, где Дездемона поет песню про иву, она с восхищением говорит о Лодовико, а затем заводит разговор об измене. Конечно, она задает вопрос в общей форме и ответ Эмилии удивляет и возмущает ее, но тем не менее она поддерживает этот разговор и выслушивает мнение Эмилии о женах и мужьях. Словно она вдруг поняла, что совершила мезальянс и что на самом деле ей нужно было искать мужа среди мужчин своего круга, среди земляков, таких, как Лодовико. Нетрудно представить, что еще два-три года рядом с такими воспитателями, как Отелло и Эмилия, — и она бы завела себе любовника.
* * *
Итак, мы возвращаемся к тому, откуда начали, — к Яго, единственному деятельному персонажу в этой пьесе. Шекспиру принадлежат слова о том, что пьеса — это зеркало, которое мы держим перед природой[57]. В данном случае на зеркале имеется дата изготовления — год 1604, но, заглянув в него, мы обнаруживаем, что в нем отражаемся мы сами, люди XX века. Когда говорит Яго, мы слышим те же слова, что слышали и зрители елизаветинской эпохи, мы видим те же самые его поступки, только значение им придаем другое — иначе и быть не может. Для первых зрителей и, возможно, для своего создателя Яго был просто еще одним злодеем макиавеллиевского типа, каких можно встретить вреальной жизни, но в ком никому не хочется узнать себя. Сегодняшнего зрителя, на мой взгляд, он задевает гораздо сильнее: мы не можем освистать его, как освистали бы злодея в киношном боевике, поскольку никто из нас, положа руку на сердце, не скажет: не представляю, как такого злодея еще носит земля. Ибо разве Яго, этот мастер розыгрыша, этот пресловутый любитель эксперимента, так уж нам незнаком? И пусть мы не имеем прямого отношения к лабораторной науке, разве не кажется нам, что в чем-то он прав?
Как говорил Ницше, экспериментальная наука — запоздалый цвет аскетизма. Исследователь должен отбросить все свои личные чувства, надежды и опасения и стать бесплотным наблюдателем, который бесстрастно следит за происходящим. Яго — аскет. Любовь, по его словам, «чистейшее попущение крови с молчаливого согласия души»[58].
Знания, которые дает наука, еще не все. Есть другой тип знания, о котором сказано в Библии: «Адам познал Еву, жену свою»[59] и этот же тип знаний я имею в виду, когда говорю: «Я хорошо знаю Джона Смита». Это знание обоюдное: если я хорошо знаю Джона Смита, то и он тоже должен хорошо меня знать.
Но, приобретая научные знания, я не жду, что меня тоже станут изучать. Например, если я плохо себя чувствую, я иду к врачу, который, сделав обследование, говорит мне: «У вас азиатский грипп» — и дает лекарство. Вирус гриппа точно так же не подозревает о нашем с врачом существовании, как не подозревают о злом шутнике люди, ставшие жертвами розыгрыша.
Далее, познать в научном смысле слова — значит в конечном счете одолеть. Все люди в какой-то степени независимы, уникальны и обладают способностью к самосовершенствованию, и потому они не поддаются строго научному познанию. Но люди не ангелы, у них есть не только душа, но и плоть; к тому же они являются биологическими организмами, функционирующими приблизительно одинаково. Кроме того, люди подвержены страхам и желаниям, о которых, возможно, не подозревают, но тем не менее они есть. Поэтому всегда есть возможность низвести человека до уровня вещи, целиком и полностью поддающейся научному изучению и — управляемой.