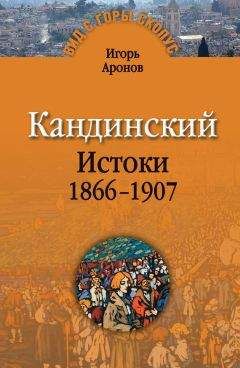Роман Тименчик - Что вдруг
– Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я, было, вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..
Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.
Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм.
Лев Шестов взял на себя заботы по денежной помощи Гершензону. С самого начала гершензоновского заграничного пребывания он обратился к заокеанскому еврейству. Эта попытка была безуспешной. 17 ноября 1922 года Гершензон писал ему из Баденвейлера: «Никакие американские евреи ко мне не приходили, а за присылку их я тебя очень благодарю». После этого Л. Шестов и говорил с Л. Моцкиным о помощи русско-еврейскому философу. В эти же месяцы он предлагал Гершензону сотрудничать с еврейской периодикой. Гершензон отвечал: «Я здесь не написал, разумеется, ни одной строки; даже не представляю себе, как люди пишут литературное. Значит, еще не так поправился, потому что когда здоров, меня тотчас начинает тревожить какая-нибудь тема, и хочется писать. Это очень жаль: я в Москву ничего не привезу для продажи. <…> А в «Еврейскую неделю» непременно постараюсь прислать тебе статейку; у меня мысль есть».
В июне 1923 года, когда было написано письмо Л. Моцкину, Шестов пытался организовать финансовую помощь Гершензону с разных сторон. Гершензон находился тогда в колебаниях – он писал Шестову:
Мы в Берлине уже почти две недели. Не писал тебе, потому что трудно было: мучились опять вопросом, ехать или не ехать в Россию. <…> Итак, опять решили ехать. А на другой день я узнал, что в России еще до лета будет отменен академический паек; это значит – голод, как в 1919-20 гг., до пайка. При этих условиях как ехать? Чистое мученье. В этих думах и разговорах мы потеряли добрую часть Баденвейлерской поправки. Мне трудно оставаться здесь – жить на такие деньги, и дети рвутся в Москву ради нормального ученья и друзей. Так замучились, что решили остаться здесь еще на неделю и несколько дней не разговаривать об этом предмете.
В Берлине Гершензон посмотрел на жизнь «наших»: «…не многим легче московской (я говорю только о внешнем), – писал он Шестову, – и притом призрачно, пустынно, одиноко. И странно: после всех жалоб, все без исключения настойчиво советовали мне не ехать в Россию, особенно Ремизов, – и притом аргументировали все только от внешнего».
О реакции Моцкина на просьбу нам ничего не известно, но Гершензоны в начале августа, несмотря на все уговоры Шестова, отправились в Москву.
Есть некое соответствие между тем, что оба эти документа повествуют нам о событиях несостоявшихся, и топологией русского архивного пространства в Израиле. Филолог-русист здесь все время (за редчайшими исключениями) сталкивается с оторванными от цельного архивного комплекса документами (как это бывает на аукционе), с обрубленными концами линий межкультурной связи.
Впервые: Лехаим. Июнь 2006 / Сиван 5766. № 6 (170). С. 55–59.
Треугольник Гаспарова
Каждая старая книга с кириллицей, оказавшаяся под израильским небом, ставит перед взявшим ее в руки вопрос – почему? Почему здесь? Ответа мы можем и не дождаться никогда, строя только догадки о чьей-то персональной истории. Расскажу об одной книжке из моей небольшой коллекции.
Началось это четверть века назад. Занимаясь русской поэзией начала XX века, я, как и некоторые другие представители моего филологического поколения, любил бродить по закоулкам былого литературного процесса, без видимой цели листая журналы, газеты, альманахи с причудливыми названиями, ускользнувшие от внимания библиографов. Иногда я натыкался в них на стихотворческие курьезы и раритеты и сообщал Гаспарову. И как-то Михаил Леонович отдарился не виданным и не слыханным мной до того сборником – «Тетрадь первая кружка “Адская мостовая”», Москва, издательство «Мост», 1922 год. 56 страниц. В указателе Н.П. Рогожина «Литературно-художественные альманахи и сборники. 1918–1927 годы» он не числился, а указателя дополнений1 тогда еще не существовало.
Подарок был с подтекстом – что может историк литературы сказать о сборнике стихотворений, подписанных ничего не говорящими даже завзятым книгочеям именами (возможно, псевдонимами) – Наталия Ли, К. Никольский, Ц. Крон, Т. Шовен? И что знает историк акмеизма о сонете некого Н. Бржевского, обращенном к Н. Гумилеву:
Жилец каких-то непонятных стран
С далекими чужими именами,
Где бродят звери с детскими глазами
И ночью поднимается туман.
Там жил когда-то страшный великан —
Его колдун заворожил стихами.
Он стал ручным и поселился с нами,
Поверив в недосказанный обман.
Я слышу аромат твоих Цветов,
Взращенных в келье сказочного мага,
Где светятся глаза антропофага,
И близок мне твой непостижный зов,
Искатель непонятных жемчугов
Неведомого нам архипелага.
Сборник открывался анонимными декларациями с нержавеющей стилистикой домашнего литературничанья, вроде сегодняшнего живого журнала:
…Отравленные значительной дозою скепсиса, мы называем себя «Адской Мостовой». Ибо все это только попытка, попытка, рожденная теми «благими намерениями», которыми какой-то талантливый мечтатель вымостил ад.
…Организационное собрание «Адской Мостовой» состоялось в январе 1921 года. Первое собрание не было последним.
…В число членов «Адской Мостовой» избраны, но ни разу не присутствовали на собраниях: Монна Ванна, Клеопатра, Леонардо да Винчи, Сирано де Бержерак и князь Мышкин. Изъявили желание вступить, но забаллотированы: Мартин Иден, Художник с Невского проспекта, Леди Лигейа, Мистрисс Пирибинкль и др.
…«Адская Мостовая» не любит темных пятен. Во время «Круглого стола» по вопросу «любите ли вы больше радостно-солнечное начало в жизни или грустно-меланхолический мотив» большинством всех голосов против трех – одержало победу солнечное начало. При этом был похоронен Бальмонт с его
…гимн соловья лишь тем и хорош, что похож на рыдание,
…гор снеговых вековое молчание
прекрасней, чем лепет ручья…
похоронена была Клеопатра из «Египетских ночей» с ее черной страстью, темные боги Греции и граф Монте-Кристо.
…Новейшая поэзия, как это, может быть, еще не всем известно, разделяется на два основных вида: стихи, которые читать невозможно – и стихи, которые можно и не читать. Авторы настоящей тетради не стремятся создать самостоятельный вид поэзии. В бесцельной сутолоке ежедневной работы, утомленные и скучно злые, мы только украдкою смеем радоваться новому белому снегу, вчера выпавшему и уже гладко покрывшему грязные выбоины ломаных переулков Москвы. Мы только украдкою пишем свои стихи и исподтишка печатаем их в под псевдонимом издаваемой книжке.
Каждый отвечает только за себя. Так как каждый волен с ума сходить по-своему и делать глупости, как ему хочется; и как-то неприятно делать глупости сообща.
Вино налито – надо его пить. И вот мы, забросив портфели и груды бумаг и лекций, дружно взявшись за руки, выступаем глубокомысленными авторами этих стихов. Впрочем, читатель сам разберется в стихах людей, слишком занятых для того, чтобы писать длинное предисловие.
За этой тоскливой чепухой, способной развлечь только писавшего ее, следовали стихи. Нет, никаких жемчужных зерен, разве что могущие пригодиться преподавателям истории литературных вкусов запыленные и топорные наглядные пособия, как, например, это сочинение того же Н. Бржевского:
Вчера я зачитался Саломеей,
И долго грезил, думая о ней…
Мы по ночам становимся пьяней
Над томиком с рисунками Бердслея.
Изгибы рук, как золотые змеи,
Переплелись с тенями тополей.
Как жуток был задумчивый Бердслей
Перед лицом раскрашенной камеи.
На площади тушили желтый газ,
И в сумраке вставали чьи-то лица.
Я пробегал знакомые страницы.
Где выткан странный роковой рассказ,
И видел прорезь неподвижных глаз
И вогнутые острые ресницы.
К этой же теме – эпиграфы из Альфреда де Мюссе и Оскара Уайльда у Наталии Ли и неистовая любовь к Рабиндранату Тагору у последнего из представленных в сборнике, у Т. Шовена:
…За Трубной в переулке
Вон там, где бьется дым из лавки мясника,
Я в комнате живу. Есть чай, есть сыр, есть булки.
O, je vous prie. Пойдем! Вот вам моя рука.
…Я буду день и ночь – до раннего рассвета,
Пока мне новый день не бросит свой укор,
Шептать созвучия красивого сонета
И все тебя читать, божественный Тагор.
…Молюсь – кому хочу. Зову – кого мне надо.
Горю, как зарево, сгораю, как свеча.
И строчки четкие – почти Рабиндраната —
Слагаю в честь любви и Бога сгоряча.
Стихи безнадежно любительские, и глаз в таких случаях цепляется хоть за имена собственные, за прописные буквы. В этой книжке читателя советской поры останавливала подпись «1921 г., Бутырки» под стихами о тюрьме Ц. Крона: