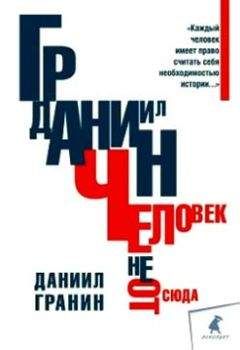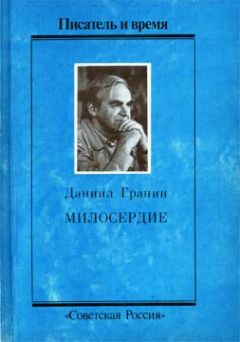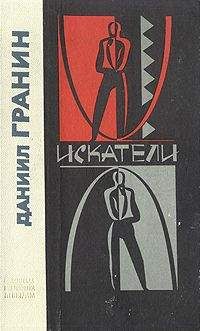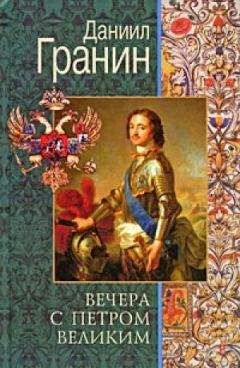Даниил Гранин - Беседы. Очерки
— Но если бы сегодня хотя бы те 50 человек, которые подписались под письмами в поддержку власти, поставили бы свои подписи под диаметрально противоположными по содержанию документами и назвали бы вещи своими именами, Вы считаете, это не имело бы никакого резонанса?
— Имело бы.
— Почему же этого не происходит?
— Потому что нет людей, готовых на это.
— Но вот Вы же есть, есть Додин, есть Пиотровский, есть Гусев. Что мешает вспомнить, что два года назад Вы вместе с ними выступали в защиту Российского государственного исторического архива, судьба которого по сей день плачевна? Но Вы молчите. Почему?
— Вы не хотите понять — потому что я остался просто как я, а Гусев — как Гусев. Остались интеллигенты, интеллектуалы. Интеллигенция, которая собиралась, организовывалась, чтобы действовать, выступала против бездумных, загадочных решений власти — исчезла. Нет этой среды, нет этой идеологии. Идеология протеста существовала как функция интеллигенции, а интеллигенция существовала как принадлежность тоталитарной системы или ее остатков. А сейчас нет той ярко выраженной тоталитарной системы. И нет интеллигенции — она или уехала, или ушла в бизнес, или спилась, или борется за свое нищенское существование. А Вы выдергиваете «изюминки»: Додин, Гусев, Пиотровский… Да, мы можем собраться — человек 10, — но это ведь совершенно не нужно, не об этом же идет речь!
— Но почему 10 человек собираются для того, чтобы поддержать власть, и эти же 10 человек не собираются для того, чтобы сказать о власти что-то нелицеприятное?
— Может, потому, что мы никогда не собирались так. Мы не диссиденты, никогда ими не были и не были заговорщиками. Этот Ваш вопрос — правильный. Просто я не могу на него ответить… Я знаю, что раньше существовал большой слой людей — моих единомышленников, — с которыми я выходил на митинг; когда они мне звонили по телефону, мы вместе писали протестные письма; мы чувствовали себя реальной силой, которая ответственна за происходящее. Сейчас — нет. Вы спрашиваете — почему? Я не знаю. Может быть, нас осталось слишком мало. Мои физики, биологи, генетики — они все исчезли. Половина из них — наиболее энергичная и талантливая — уехала…
— И несмотря на то, что Вы только что констатировали самый настоящий социально-культурный мор, Вы говорите о положительной динамике в жизни нашего города?
— Да, в жизни города появляются какие-то материальные вещи, которым я радуюсь. И есть какая-то моральная, духовная пустыня…
— Получается, что вот стоят руины прекрасного древнего храма, а на его стенах растут какие-то кустики, мхи, лишайники, грибы… И Вы говорите: «Посмотрите, жизнь-то продолжается!»…
— Нет. Такая картина меня не устраивает. Вы утрируете и где-то искажаете мое представление. Вы берете разные области жизни: одно дело — жилищное строительство, архитектура и благоустройство нашего города, его культура, а другое дело — общественная жизнь.
— Но если общество мертво, как может жить культура? Это же нонсенс! Если нет общественной жизни, — значит, нет жизни в принципе, потому что все остальное — это производная от общественной жизни…
— Общественная жизнь — это еще не вся культура.
— Общественная жизнь — это почва, на которой появляется культура.
— Культура куда независимей, чем Вам кажется, ее почва — просто жизнь. Художник, который работает в своей мастерской, или я, который сидит и пишет, — мы просто работаем. И не зависим непосредственно от общественной жизни, которой, повторяю, в Петербурге нет. Культура есть: выставки, концерты, живопись. А общественной жизни нет. Конечно, это ненормально для нашего города, который всегда в чем-то был заводилой, инициатором многих вещей. Но сегодня это нормально в масштабе страны. И это, конечно, вызывает очень тяжелое ощущение…
— Но ведь корни того «моратория гражданственности», который оказался наложен на Россию и на Петербург в частности, уходят… в Петербург! Ведь общественная жизнь страны перестала подавать признаки пульса с того момента, как к власти пришла команда петербургских младореформаторов и младочекистов во главе с нынешним президентом…
— Я думаю, происхождение правителей не играет никакой роли. И считаю, что это грешно — возлагать на Петербург вину за то, что творится в стране. Это неправильно!
— То есть Вам кажется, никакой связи между тем, что и как делает Путин и его команда, и тем обстоятельством, что они пришли из Петербурга, нет?
— Это уже расизм какой-то! Потому что это не связано с Петербургом. Нет такого «петербургского реакционного сознания», которое было пересажено в Москву и теперь владеет всей нашей политикой. Если принять Вашу логику, то курс Ельцина окажется «екатеринбургским», а курс Горбачева — «ставропольским». Но ведь это абсурд! Другой вопрос: чем объясняется то, что сейчас происходит в стране? Это вопрос, в который мы упираемся на любом отрезке нашей истории. Это вопрос о произволе. А еще точнее, это вопрос об отсутствии альтернативы произволу. Вот возьмите тех, которые уезжали из нашей страны… Они что, уезжали для того, чтобы найти какой-то другой путь развития страны? Ничего подобного! Они никогда ничего не предлагали. Они только критиковали. Или вот с какой альтернативой выступает сегодня КПРФ — единственная живая партия в России? Ни с какой привлекательной альтернативой она не выступает. И все остальные — тоже ни с какой. Мы живем в безальтернативное время.
— Семь лет назад мы с Вами говорили о вполне конструктивной альтернативе: о необходимости эмансипации регионов России, о том, чтобы регионы все больше и больше становились независимыми от Москвы и каждый бы искал свой путь в будущее.
— Мы тогда выступали под Вашим знаменем за отделение Петербурга от России.
— Это был радикальный вариант той же регионалистской идеи.
— Но это нереально!
— Вы знаете, Каталония только что получила вполне реальную автономию. Страна басков также стремится стать независимой. И это реальность. Нереальность — существование в каком-то угрюм-бурчеевском государстве, в котором история в какой-то момент попросту «прекращает свое течение»…
— Если Каталония получила какую-то автономию, — значит, созрели социально-политические и экономические силы. К слову, у меня нет никакой уверенности, что Россия останется цельным государством. Но я не могу сегодня выступить с конкретным предложением. У меня даже внутри нет какой-то реальной альтернативы, которую я мог бы серьезно предложить для обсуждения.
— Но неужели Вы, окидывая чисто художественным взором писателя все, что сейчас видите по телевизору и на улице, не задаетесь мыслью, что так не может продолжаться сколь бы то ни было долго — этот театр абсурда?
— Да.
— Так, может, стоит использовать тот ресурс влияния, который у Вас есть, чтобы громко и своевременно назвать вещи своими именами, а не ждать, пока все начнет сыпаться как снег на голову?
— Знаете, было известное Вам выражение Герцена: «Мы не врачи. Мы — боль». Литература — не врач, она не может предлагать никаких рецептов. А как боль она выступает. Или, во всяком случае, должна выступать. Недавно я выпустил телевизионный сериал на «Культуре», где рассказал об этой ужасной боли — трагедии «Ленинградского дела»…
— Но это все же боль полувековой давности, а речь идет о сегодняшнем дне…
— Что значит «полувековой давности»?! «Война и мир» тоже была полувековой давности. И «Хаджи-Мурат» тоже. Боль не зависит от времени. Нельзя рассуждать так!
— Но Лев Толстой, кроме того, «не мог молчать» и по поводу военно-полевых судов образца 1906 года…
— Я говорю про литературу, а не про публицистику. Это разные вещи.
— Но почему Вы сегодня не используете тот ресурс влиятельности, который у Вас есть?
— Очень простой напрашивающийся упрек, в том числе и ко мне: «Почему Вы не выступите и не расскажете про абсурд нашей жизни?» Но для того, чтобы выступить, я должен сказать: а что я хочу взамен того, что есть сейчас? Что я предлагаю взамен? Ничего… Я могу сказать только о безобразиях, которые, я вижу, творят наша милиция, наши суды, наша музыкальная и телевизионная культура. Но я не знаю, как это изменить, что предложить… Что изменится оттого, что я назову своими именами вещи, которые и так уже всем известны? Мы живем со всем этим ужасом уже 10–15 лет. Что, к примеру, в Чечне убивают и на всем Кавказе наши войска творят произвол — это всем известно…
Я думаю, самая главная наша проблема, боль, мерзость нашей жизни состоит в том, что у нас нет во власти людей, болеющих за Россию. У нас есть люди, которые занимаются либо заботой о своей карьере, либо заботой о своей власти, либо заботой о своей корысти. К сожалению, мы с этим сталкиваемся уже много лет. Я не верю никому из наших правителей. Ни министрам, ни председателям правительства, ни деятелям этой единой партии и т. д.