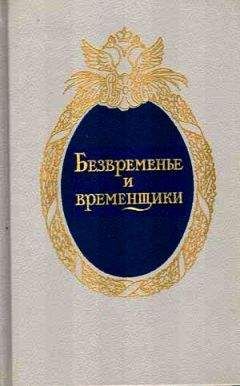Евгений Гнедин - Выход из лабиринта
То, что заключенного помногу месяцев не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, учитывая обычный характер «допросов». Но когда при строгой изоляции отсутствовал личный контакт, хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о времени и перспективу собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного важной формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.
За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингисом Ильдрымом) трое соседей, из них двое — провокаторы…
…Контакт с соседями был каждый раз недолгим эпизодом, лишь усиливавшим ощущение полной изоляции. Помню, в тоске я говорил себе: «Вот было бы счастье, хотя бы только утром и вечером переброситься с кем-нибудь парой слов пустяшного содержания». Иной раз мне удавалось, став на табурет и подтянувшись на руках, взглянуть в щель между полуоткрытыми форточками во внутренней и наружной раме. Я видел, как вдалеке в роще под дождем торопливо шли люди. Я думал: а ведь они озабочены повседневными житейскими делами и не понимают, что они счастливцы. Оказавшись после суда в июле 1941 года в Бутырках, я откликнулся на вызов желающих идти убирать камеры (уже началась эвакуация тюрем). Зайдя в пустую камеру, где еще стояли железные койки, валялись шахматы и стопки книг, я, недавний сухановский узник, подумал с горькой иронией, но и с завистью: «Вот люди жили!».
Обычно в сухановской тюрьме царила глубокая угнетающая тишина. Но иногда ее нарушали страшные вопли. Либо по коридору волочили избитого страдальца, либо кричал обезумевший от страха человек. Одно время в соседней камере сидел сумасшедший, монотонно, но очень громко выкрикивавший одни и те же слова. Однажды, когда тюремщики были заняты моим разбушевавшимся соседом, я воспользовался этим, чтобы взобравшись на табурет, выглянуть в щель между форточками. Уже была весна, и под окнами тюремного флигеля какая-то незадачливая воспитательница детского сада выстроила ребят для гимнастики. Я разглядывал детишек, которых не видел больше года, а рядом за стеной вопил мой обезумевший товарищ по несчастью: «Позовите моего брата!».
Раз в три месяца меня вызывали следователи, чтобы убедиться, что я еще не сошел с ума.
В основном же мой рассказ посвящен раздумьям, моей интенсивной душевной жизни в секретной тюрьме.
ПОИСКИ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ
Через 20 лет после моего пребывания в Сухановской тюрьме, я, вернувшись в Москву из ссылки, побывал у стен Сухановского монастыря. Медленно обошел я здание, пытаясь заглянуть внутрь, но это было невозможно. У запертых железных ворот я увидел группу скромно одетых людей с узелками и сумками. На мои вопросы они отвечали уклончиво, но можно было догадаться, что здесь собрались посетители с продуктовыми передачами, терпеливо ждущие, когда их примут. Мимо прошагало несколько солдат внутренних войск. Насколько я мог понять, «Сухановка» была превращена в тюремную больницу. Во всяком случае и на переломе к шестидесятым годам это было по-прежнему зловещее место.
Мрачным было не только здание, но и окружающая местность с глинистой почвой, рвами и канавами, безлюдная.
Я узнал двухэтажное здание, обрамлявшее часть территории бывшего монастыря, постарался правильно сориентироваться и подойти с наружной стороны к тому фасаду здания, куда двадцать лет назад выходило окно моей камеры. Гофрированных стекол уже не было. Со сложным двойственным чувством глядел я на тюрьму, в которой пробыл больше года и подвергался избиениям. Минутами мне было жутко, тревожно, не хотелось задерживаться в этом месте, не хотелось погружаться в атмосферу былых тяжких переживаний.
Но вместе с тем я испытывал и острое чувство облегчения, почти торжества, как если бы мне только что удалось избегнуть смертельной опасности, вырваться из рук убийц. Я шагал взад и вперед, касался рукой кустов, наклонялся, чтобы разглядеть крошечный клочок земли, который, как мне казалось, я видел когда-то через щель форточки. Я приглядывался к купе деревьев, откуда в 1940 году порой доносилось щебетанье птиц. Я наслаждался тем, что я стою вне тюрьмы, я снаружи, я могу ходить по земле, я уже больше не взаперти там, внутри застенка.
Я умер, но остался жив и должен теперь начинать сначала. Таким было состояние духа реабилитированного, вернувшегося на большую землю после шестнадцати с половиной лет пребывания в лагерях и ссылке. Человек восстал из мертвых после гражданской смерти. Он оказался лицом к лицу со всеми теми крупными и мелкими житейскими проблемами, которые ставит перед мыслящим человеком личная и общественная жизнь. Он уже в прошлом решал такие вопросы, но теперь, словно в начале жизни, — новы все впечатления бытия, и он должен искать новые решения.
Сознание нового начала созревало у меня еще в Суханове. В ту тяжкую пору я вовсе не был уверен в том, что выйду живым из застенка. Все же я размышлял над тем, как я построил бы свою жизнь. Я намечал новую линию поведения.
Через много лет, стоя под окном моей бывшей тюремной камеры, я спрашивал себя: действительно ли я принял тогда глубоко продуманные твердые решения, чуть ли не пережил «второе рождение» еще задолго до воскресения из мертвых? Может быть, я там взаперти лишь предавался иллюзиям, думая, что можно обрести подлинную внутреннюю свободу?
Уже не впервые я в этих записках упоминаю о стремлении к внутренней свободе. Заканчивая рассказ о первом полугодии следствия, я даже обронил слова о том, что в строгих размышлениях нашел пути к столь высокому состоянию духа. Говоря так, я взял на себя невыполнимое обязательство. Разве я могу сказать, что такое «внутренняя свобода человека»? Внутренняя свобода разумного существа по Канту? Но я ведь не пишу философский трактат, да и вспомнил о кантианской терминологии только сейчас, записывая свои мысли.
Хотя в сухановской тюремной камере меня весьма занимали философские проблемы (я прочел ряд томов Гегеля), но мне нужно было обдумать жгучие проблемы, которые поставила современная история перед моим поколением. Такой была и проблема внутренней свободы. Она тесно связана с отношением к революции, к великим революционным преобразованиям, но и революционному террору.
Я не мог уйти от этих проблем, когда в 1940–1941 годах в тюремной камере искал путей к внутренней свободе.
В тюрьме внутренняя свобода — это прежде всего способность оставаться самим собой, сохранить в своих мыслях и реакциях на окружающее независимость от влияния тюремщиков, следователей и палачей. Можно это определение распространить и на отношение человека к деспотическому государству и к деспотической идеологии. Он обретает некоторую внутреннюю свободу, если не поддается самообольщению, самообману, не лжет по крайней мере самому себе. Однако все же это — поверхностное, ограниченное определение внутренней свободы, оно — ограниченное по той простой причине, что речь идет о взаимодействии между личностью и тюрьмой (в широком и переносном смысле слова). Узникам далеко до высшей формы внутренней свободы, до подлинной свободы выбора, отражающейся на поведении человека, на его жизненной линии, вплоть до выбора между жизнью и смертью.
В Сухановской тюрьме, наедине с самим собой, я постиг необходимость по-новому оценить тот выбор, который я сделал в молодости и который определил мою жизненную линию. Я окинул спокойным взглядом пути, пройденные мною вплоть до того дня, когда позади меня захлопнулись тюремные ворота, но я сумел это сделать лишь после того, как преодолел отчаяние, охватившее меня к концу первого года пребывания в заточении. В голубой темнице секретной тюрьмы я пришел в ужас при мысли, что, проявляя мужество, я не спасаю свою жизнь, а то, что я выдержал пытки, никто никогда не узнает. Если я даже совершил подвиг, то, возможно, он был бесплодным.
…Когда на второй год пребывания в следственных тюрьмах меня в особорежимной тюрьме вновь подвергли пыткам, когда я убедился, что и отстаивая свою невиновность, я не добьюсь освобождения, хотя я и выдержал пытки, не дал ложных показаний, все же меня ждут новые мучения, вот тогда обрушилась на меня душевная катастрофа.
«Печаль достигла вершины отчаяния». Я стал думать о самоубийстве. И хотя тогда мне чудилось, что прозвучал голос рока, я теперь понимаю, что то было менее опасное состояние, нежели угнетавшее меня спустя многие годы в ссылке. Дело даже не в том, что в сухановской камере, где заключенный находился чуть ли не под непрерывным наблюдением, было трудно покончить с собой. Как я теперь понимаю, в Суханове я не был охвачен непреодолимой тягой к самоубийству, а я рассуждал об этом.
Высшая степень отчаяния — это самоубийство. Мысль о самоубийстве — тяжкий грех, одинаково и для христианина, и для атеиста. Счастливы мудрецы, способные воспринять конец человеческого пути как переход в новое бытие или растворение во вселенском бытии. Я умом и сердцем воспринимаю самоубийство, отказ от жизни как непомерно мучительный, трагический отказ от единственного оправдания и личности и мира. Мучительна мысль о самоуничтожении, но страшна мысль о том, что самоубийство есть уничтожение мира в целом…