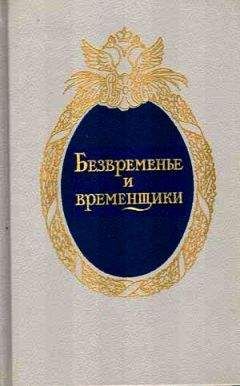Евгений Гнедин - Выход из лабиринта
…Когда процедура протокола закончилась, я с внешне безмятежным видом спросил следователя, когда переведут деньги в ларек тюрьмы, в которой я нахожусь. Я хотел выяснить, оставляют ли меня в «Сухановке» и окажусь ли я здесь в обычных тюремных условиях. Ответ следователя, не ожидавшего, что я как ни в чем не бывало заговорю о деньгах на «лавочку», был в каком-то смысле успокоительным: «Ну, не сразу, через несколько дней переведут деньги».
Первые недели после избиений были очень мучительными. Дело в том, что в конце июня и в июле 1940 года стояла необыкновенная жара. Тот, кто живал на московских дачах, знает, что на верхнем этаже старого здания непосредственно под железной крышей, да еще в непроветренном помещении в знойные дни становится нестерпимо жарко. Именно так обстояло дело в нашей камере. Я обливался потом, и горячие капли, затекая в открытые раны, вызывали жгучую боль. То были пытки, незапрограммированные следователем. Я стоял лицом к стене, пот лился по спине и слезы по лицу.
Физические страдания лишили меня самообладания. Но и было от чего прийти в отчаяние. Да, после того, как я в очередной раз устоял под пытками и защитил свою невиновность, я не испытывал чувства торжества, я был в ужасе. Я был в ужасе. Я был в ужасе от того, что оказался лицом к лицу с чудовищной несправедливостью и беспощадностью. Сознание безнадежности моего положения причиняло мне в те дни большие страдания, чем даже физические мучения. В самом деле, на предыдущих этапах следствия я себя защитил, никого не очернил, может быть, даже кое-кого уберег от катастрофы, и каков же результат? Я понимал, что мой перевод в особорежимную тюрьму и избиения имели лишь одну простую цель: довести до конца мое дело в соответствии с требованием начальства, то есть погубить меня.
Чингис Ильдрым пытался меня успокоить. «Вы так хорошо держались эти дни, — говорил он мне, — как же теперь у вас сдали нервы?». Действительно, в день пыток я сохранял внешнее спокойствие и в перерыве между «церковными бдениями» даже старался выслушать или делал вид, что слушаю рассказ соседа об устройстве домны. Когда же противостоять палачам уже не нужно было, воля ослабла. Лишь постепенно я пришел в себя и освободился от ощущения бессмысленности моей борьбы с палачами.
Чингис Ильдрым вызвал в камеру фельдшера и пожаловался на то, что из-за постоянного сидения на табурете у него распухли ноги. Возможно, он хотел, чтобы и мне была оказана помощь, ведь я был в гораздо худшем состоянии, чем мой сосед. Но я жалоб не заявлял. Фельдшер осмотрел ноги моего соседа, окинул меня взглядом знатока (я был обнажен по пояс) и изрек, обращаясь к нам обоим: «В медицинской помощи надобности нет».
Я нуждался не столько в медицинской помощи, сколько в моральной поддержке. Такую помощь мне оказал Чингис Ильдрым. Мне не нужно было, чтобы он выслушивал историю моего дела или рассказывал мне о своем деле. Мы с ним вовсе не говорили о следствии, предъявленных обвинениях, ходе дела, то есть обо всем том, о чем часто и чрезмерно много рассуждали заключенные в камере. Мы оба по возможности избегали этих тем. Именно поэтому, когда Чингис Ильдрым разговорился, его интересные рассказы явились для меня ощутительной поддержкой.
Чингис Ильдрым был первый и, кажется, единственный курд в СССР, получивший высшее образование. Он кончил технический вуз в Ленинграде, а до того он участвовал у себя на родине, на Кавказе, в борьбе за Советскую власть. Из его слов можно было понять, что он весьма популярен среди советских курдов.
Теперь я узнал, что Чингис Ильдрым в годы гражданской войны находился в бакинском большевистском подполье, державшем связь с С.М.Кировым, побывал первым наркомвоенмором Азербайджана и наркомом путей сообщения. Обо всем этом Чингис Ильдрым мне не рассказывал.
Ильдрыма арестовали в 1937 году; мы с ним встретились, когда его тюремный стаж превышал два года. После пыток его долго держали в общей камере в Бакинской тюрьме; камеры были переполнены и их соединял общий коридор. Заключенные воспринимали как сенсацию то, что можно увидеть Чингис Ильдрыма, и ходили в камеру, чтобы на него поглядеть. Однажды, когда он лежал на каменном полу, над ним наклонился курд, бывший крупный помещик, и сказал: «Хорошо, что мне удалось увидеть тебя здесь». Для озлобленного врага Советской власти было минутой торжества то, что в тюремной камере рядом с ним находился в заточении идейный революционер…
…Чингис Ильдрым, которому пришлось быть начальником Магнитостроя, рассказывал об Орджоникидзе и его стиле работы; известно, каким уважением, да и любовью пользовался Орджоникидзе у близких к нему работников индустрии.
Чрезвычайно интересным было все, что Чингис Ильдрым рассказывал о Кирове. Правда, он избегал определенного указания на то, когда и на какой работе он сотрудничал с Кировым. Чингис Ильдрым подозревал, что нас подслушивают, и не хотел касаться тем, которые, очевидно, использовались следователями, ведшими его дело, для провокационных и клеветнических обвинений. Попросту говоря, Чингис Ильдрым был арестован и обречен на мучения именно потому, что был близок к Орджоникидзе и в дружбе с Кировым.
Именно по той причине, что Чингис Ильдрым был весьма осторожен и сдержан, воспринимались как убедительное свидетельство очевидца те его замечания, из которых было ясно видно, что Киров относился без особой симпатии и даже настороженно к правящей верхушке и, следовательно, к Сталину, хотя это имя Чингис Ильдрым не упоминал. Я запомнил рассказ Чингиса Ильдрыма о том, как Киров приезжал в Москву из Ленинграда, когда Ильдрым уже жил в Москве. Киров предупреждал друга о своем предстоящем приезде и тот встречал Кирова на вокзале. Обычно Киров не садился в присланную из Кремля машину, а на газике приятеля-хозяйственника отправлялся к нему закусить и выпить. Если Кирова не ждали к определенному часу, то они с Ильдрымом ходили в Сандуновские бани, парились и беседовали. Это было их любимое совместное времяпрепровождение в Москве. Можно легко догадаться, что в парной друзья говорили по душам; возможно, Киров информировался о московской жизни, а, может быть, наоборот, в беседах с другом отдыхал от серьезных дел перед тем, как отправиться на свидание с диктатором.
Вот какими историями развлекал меня друг Кирова в камере особорежимной секретной тюрьмы, из которой никто не надеялся выйти на свободу, да и вообще выйти живым…
Мы пробыли вместе с Чингисом Ильдрымом недели две. Наступил грустный день, когда его вызвали из камеры с вещами. Он собрался очень быстро, очень взволновался и, уже выходя, в дверях, обернулся, чтобы проститься, Я навсегда запомнил совершенно белое лицо и черные как угли глаза.
Я остался один. Начался годичный период пребывания в голубой темнице, тринадцать месяцев без прогулок…
…"Законсервированных" заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избиений меня вызвал младший лейтенант Гарбузов, видимо, только чтобы на меня посмотреть. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур. Он прочитал мне адресованное на мое имя как заведующего Отделом печати, но полученное после моего ареста, письмо Марты Додд, дочери бывшего посла США в Германии, известной антифашистской писательницы. Капитана не интересовало содержание письма, и он, очевидно, захватил его с собой, предполагая, что его развлечет моя реакция на адресованное мне письмо. Капитан ни словом не обмолвился о положении моего дела, а я — насколько помню — не стал спрашивать. Происходило это глубокой ночью. Видимо, я счел бессмысленным задавать вопросы, вероятно, я думал лишь об одном — не угрожают ли новые пытки, а, возможно, я просто был пассивен после многих месяцев изоляции.
Ранней весной, уже 1941 года, мой следователь Гарбузов, вызвав меня, завел мирный разговор, пытаясь уловить, представляю ли я после двух лет тюрьмы, что происходит в мире. Тогда я удивил его, изложив ему два варианта возможного (но неизвестного мне) выступления Германии на Западе; лейтенант невольно информировал меня о подлинном ходе дел, воскликнув по поводу одного из моих прогнозов: «Так это же правильно!». Моя последняя встреча с Гарбузовым происходила уже поздней весной 1941 года, незадолго до суда (чего я, конечно, не знал). На этот раз молодой следователь был со мной неожиданно груб, по поводу какой-то моей реплики поднял крик, явно рассчитывая, что в соседних помещениях его коллеги услышат, как грозно он со мной разговаривает. Я сказал лейтенанту, что он впервые груб со мной, а это не способствует моему уважению. Он замолчал и расстался со мной, вероятно, уже зная, что мы никогда больше не встретимся, даже если я останусь жив.
То, что заключенного помногу месяцев не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, учитывая обычный характер «допросов». Но когда при строгой изоляции отсутствовал личный контакт, хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о времени и перспективу собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного важной формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.