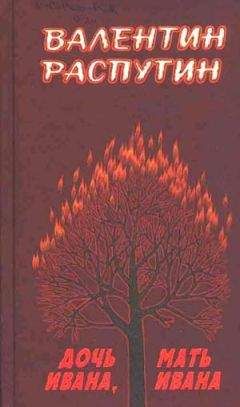Журнал Наш Современник - Журнал Наш Современник №11 (2003)
Это письмо, вне сомнения, может послужить образцом эпистолярного жанра, которым так хорошо владел Тютчев. И не будь он великим поэтом, своими подробными и красочными эпистолами он мог бы состязаться в мастерстве с автором “Писем русского путешественника”. В письмах особенно интересно, что Федор Иванович, вероятно, специально останавливается в тех местах (и описывает их), в которых они когда-то тайком (Тютчев еще был женат на Элеоноре!) бывали, останавливались или просто, проезжая мимо, смотрели оба на одно и то же. И даже поклон Мюнстеру (казалось бы, какому?) для Эрнестины понятен, ведь это их любимый собор в Страсбурге. В середине письма-повествования восхищает сравнение новой железной дороги и старого дилижанса с косноязычным разговором бывшего тютчевского сослуживца по миссии в Турине Том-Гаве и речью одного из самых блестящих ораторов Франции Тьера.
* * *
Франкфурт-на-Майне, 17/29 августа 1847
[…]Когда увидишь князя Вяземского, передай ему, что я очень приятно провел время с Жуковским сначала в Эмсе, где мы прожили шесть дней, занимаясь чтением его “Одиссеи” и с утра до вечера болтая о всевозможных вещах. Его “Одиссея” будет действительно величественным и прекрасным творением, и ему я обязан тем, что вновь обрел давно уже уснувшую во мне способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению. Он тоже казался весьма удовлетворенным тем сочувствием, которое вызвал во мне его труд, — и он был прав, ибо сочувствие мое было искренно. Мне очень нравится и его жена — благородное и нежное создание, словно сошедшее нарочно для него с какой-то славной картины старинной немецкой школы. Признаюсь, что этот тип в конце концов мог бы мне показаться несколько пресноватым, но иногда мне приятно его покойное и чистое очарование. Оно дает мне отдохновение от меня самого, да и от многих других... Вчера, 28 августа, мы с Жуковским обедали в l,Hotel de Russie. В этот день исполнилось 98 лет со дня рождения довольно известного франкфуртского гражданина — Гёте, но, право, сдается мне, что во всем Франкфурте только мы одни и были достаточно простодушны, чтобы вспомнить об этой славной годовщине. Сегодня Жуковский в Дармштадте, на свадьбе Г. Гагарина, который женится на самой черномазой девушке, какую я только когда-либо видывал.
Все эти дни мы были совершенно поглощены страшной трагедией в семье герцога де Пралэн, разыгравшейся, как тебе, вероятно, уже известно из газет, в десяти шагах от дома, где ты жила с отцом. Быть может, ты даже знаешь дом, где случилось это ужасное происшествие. Оно волновало меня несколько дней, и лишь со вчерашнего дня, когда мы узнали о смерти злосчастного убийцы, нервы мои стали немного успокаиваться... Каково было пробуждение несчастной герцогини в роковую ночь 18-го числа под первым ударом кинжала ее страшного мужа!
Неужели ты не радуешься, что тебя ограждает от подобной возможности расстояние в 400 миль? Но не все женщины так хорошо ограждены, как ты, и я отлично понимаю, что, например, наша милейшая княгиня Вяземская, читая рассказ об этом трагическом происшествии, не могла не предаться грустным мыслям о возможностях, ожидающих ее в будущем.
А пока прости, моя милая кисанька. Следующее мое письмо будет из Веймара. Очень мило с твоей стороны, что ты напомнила мне привезти подарки госпоже Капелло . Ты ведь представляешь себе, что если у меня останутся свободные деньги — то подарки будут куплены для тебя одной . Если бы только какая-нибудь милосердная душа сказала мне, что может доставить тебе удовольствие... Ах, как ужасно быть столь нелепым, как я!
Мой брат, только что вернувшийся из Висбадена, шлет тебе самый сердечный привет. Он остался очень доволен твоим приемом. Прости! Обнимаю детей. Да благословит и да хранит вас Господь!
Весь твой
Ф. Т.
* * *
Москва, пятница, 29 июня
Наконец-то, три дня тому назад, я смог успокоиться, увидев, как ваш длиннолицый и белобрысый посланник входит в дом Сушковых, а на другой день я получил твое первое письмо из Овстуга... Теперь, если бы мне было обещано чудо, всего одно только чудо в мое распоряжение, — я воспользовался бы им, чтобы в одно прекрасное утро проснуться в той комнате, которую ты так любезно приготовила мне рядом со своею, и, пробудясь, увидеть зелень сада, а в глубине его — маленькую церковку. Ибо с тех пор, как я знаю, что ты там, эта противная местность стала казаться мне почти что красивой и облеклась в моем воображении в особые тона, свойственные отсутствующим предметам, столь хорошо мне знакомые и так часто мучившие и дразнившие меня в жизни...
Но что, тем не менее, вполне реально в моих впечатлениях — так это пустота, созданная твоим отсутствием. Порою я чувствую себя совсем стариком и возмущаюсь, что так мало могу довольствоваться самим собою. Ах, каким жалким созданием становишься, когда сознаешь себя во власти того, что не является твоим собственным, личным я... В конце концов, нельзя сказать, чтобы я очень скучал и чтобы мне очень не нравилось здесь. — Перечислю тебе мои развлечения: прежде всего у меня есть Блудовы, которые уже два дня, как поселились в Парке. Послезавтра я поеду к ним пить чай, вместе с Сен-При , отцом и сыном. Мне очень любопытно познакомиться с сим последним, который, бесспорно, является одним из умнейших людей нашего времени. Вчера вечером я был у одной молодой и красивой вдовы, госпожи Небольсиной , о которой ты слышала, — очень белокурой, тоненькой и весьма развязной. Сегодня вечером для разнообразия съездим в гости к митрополиту, а утром съезжу поздравить друга моего Чаадаева — он Петр и, следственно, сегодня именинник. Он очень уговаривал меня приехать, выражая свое желание меня видеть с оттенком благожелательной небрежности и говоря мне, что я могу быть почти уверенным, что несмотря на такое время года встречу у него в это утро много народу. В будущее воскресенье в Парке будет большая иллюминация. На другой день, в понедельник, — большой праздник в имении князя Сергея Голицына, дяди Михаила , которого я намереваюсь по этому случаю посетить… Как видишь, у меня — строго говоря — нет недостатка в развлечениях, и нужно быть столь нелепо созданным, как я, чтобы не уметь — даже теперь, когда я знаю, что ты доехала, — обуздать хотя бы на некоторое время свое постоянное беспокойство.
P. S. Вот новость, заслуживающая моих усилий и чести быть в постскриптуме. Тут только что получено известие, что похититель прекрасной госпожи Жадимировской — князь С. Трубецкой наконец пойман вместе с хорошенькой беглянкой в одном из портов Кавказского побережья, в тот самый момент, когда они готовы были отплыть в Константинополь. Эту новость, между прочим, сообщает своей жене Соллогуб. Он добавляет, что они целую неделю прожили в Тифлисе, и никто ничего не заподозрил, и что задержали их только потому, что за полчаса до отъезда этот нелепый человек не смог устоять против искушения сыграть партию в бильярд в местной кофейне, где его, по-видимому, опознали и разоблачили. Бедная молодая женщина была немедленно под надежной стражей отправлена в Петербург, а что до него, то ему, вероятно, придется спеть самому себе оперную арию, которую охотно певали в былое время: “Ах, как сладко быть солдатом” . Вот славная история!.. Вчера еще молодая вдова, о которой я тебе писал, говорила мне по поводу этого приключения, что она в конце концов не находит, чтобы это бедное создание заслуживало бы такой уж сильной жалости, что все невзгоды, которые она переживает в настоящее время, пойдут ей на пользу в ее будущих романах и придадут им совершенно особую силу. Весьма возможно.
Из письма видно, какой виноватый тон выбрал поэт для разговора с женой. Ведь это был период наибольшего увлечения им Еленой Денисьевой (20 мая 1851 г. она родила дочь от Тютчева, которая была и записана под фамилией отца). Но в том-то и дело, что Тютчев был искренен, обращаясь к собственной жене. Эту его способность если и не знали, то, вероятно, чувствовали ближайшие родственники. Сын поэта и Денисьевой, сам поэт и превосходный военный бытописатель Федор Федорович Тютчев, свидетельствовал про отца, что “натура Федора Ивановича была именно такова, что он мог искренно и глубоко любить, со всем жаром своего поэтического сердца, и не только одну женщину после другой, но даже одновременно…”* Естественно, что Эрнестина Федоровна, умная женщина, еще сохранившая прежнюю красоту и привлекательность, о многом догадывалась. Но не могла же она, баронесса, воспитанница лучшего пансиона в Страсбурге, жена и мать большого семейства, снизойти до каких-то скандалов и семейных сцен. Она молча забирала детей и уезжала, чем еще больше морально раздавливала мужа. А он между тем стоял на перепутье между двумя женщинами, между Петербургом и Овстугом, малодушно прячась в Москве в семье родной сестры.