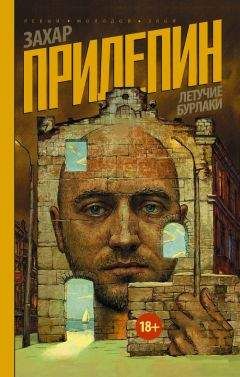Захар Прилепин - Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями
Рябов спокоен, неревнив, добр к тем временам, в которых пришлось жить, – и благодарен им. Добр, говорю, даже к отлученным от дружбы товарищам и к неслучившимся женщинам.
Еще Рябов умеет создать то многоголосье, которое в XX веке кинематографистам удавалось, пожалуй, даже лучше, чем литераторам.
Когда перекрестная беседа, звон чашек и бокалов, чья-то песня за окном, дребезг проехавшего трамвая, чей-то громкий, но неясный спор и чей-то, быть может, плач вдруг создают атмосферу, которую запоминаешь куда лучше, чем любую лобовую сюжетную историю.
Самые разные люди здесь встречаются, разговаривают, рассказывают какие-то грустные или забавные вещи и потом тут же исчезают (чтобы вновь на миг появиться спустя сто страниц). Поначалу даже путаешься в именах, а порой не можешь разгадать, какая из трех предложенных в главке сюжетных линий окажется самой важной.
А потом понимаешь, что эта сумятица, эта легкая хаотичность и есть наиболее точное отражение жизни, которая распадается на десятки противоречивых и нескладных сюжетов, но оставляя какой-то единый вкус и, да, какую-то едва уловимую музыку.
Голос Рябова, иногда чуть сентиментальный, иногда чуть лукавый, – он эту музыку дает услышать.
А где таится музыка – я так и не понял.
Может быть, в фотографической точности рябовского взгляда. Рябов умеет с незримой легкостью давать отличные, почти как у Валентина Катаева, зарисовки: «В послевоенные годы в мастерской на Республиканской работали инвалиды: кто без руки, кто без ноги, а приемщик был без глаза и без носа. Он ловко подхватывал принесенный валенок, сапог или мальчишеский ботинок, остреньким мелком рисовал крестики и дужки, приклеивал пахучим резиновым клеем ярлычок квитанции и закидывал обувь на верх кожано-резиново-валяной кучи под самый потолок. Нам, мальчишкам, взрослые говорили, что у приемщика пулей на войне отстрелило нос и выбило глаз, но мы им не верили: а верили мы нашему другу Вовке Соколову, который божился, что у урода был сифилис. Вовка был у нас непререкаемый авторитет в области медицины».
Прелесть же!
Тем более что помимо цепкой к деталям памяти у Рябова развито еще и обоняние: «Черемуха у Фимки Грача во дворе была такая здоровенная, что, когда она цвела, терпкий дурман ее накрывал весь Холодный переулок. Если поздним вечером, когда жидкие майские сумерки опускались на город, ветра не было, то пешеход натыкался на этот густой сладкий черемуховый запах уже на подступах к переулку: что со Свердловки, что со Студеной, что с Дзержинской. Но в глубине трущобных деревянных дворов даже черемуха не могла забить ароматы оттаивающих, отпыхивающих после зимней дремы сараев. Из их расхлебяненных внутренностей, нарочно распахнутых настежь для проветривания, уверенно ползли другие естественные запахи: пахло деревом сохнувших бочек из-под кислой капусты, гнилой картошкой, прелой соломой и стружками из старых, рваных матрасов и кресел».
Видите, два отрывка в абзац размером – а стоят иной книжки. Потому что порой в целом романе так и не обнаружишь ощущения эпохи и ее пространств – а тут эти ощущения выдали нам на раз.
К обонянию добавим еще и слух. «Семен великолепно владел своим голосом и умел им расставлять и точки, и запятые, и восклицательные знаки не хуже, чем на бумаге».
В одной рябовской фразе дан человек с его красивой, степенной, чуть самолюбующейся речью; хорошо.
К слуху и обонянию прибавим зрение: «Эти несколько недель бабьего лета, которые в конце концов упираются в холода, по своей материнской мягкости, нежности и теплоте трудно сравнить с чем-либо другим. Уезжать на эти дни куда-то в Сочи или даже в Болгарию – сумасшествие. Да, понятно – морской воздух, здоровье надо поправлять. Но вы помните, какой воздух у нас в сентябре, когда нет уже пыли, марева, дымки, и кажется: напрягись – и видны будут веточки в лесу на горизонте за Волгой. Воздух такой прозрачный потому, что в нем нет цветочной пыльцы. Летом он из-за пыльцы бывает мутным, а не из-за жары. Летом всегда что-нибудь цветет, а в сентябре…»
Тридцать пять лет я прожил – и никто мне, кроме Рябова, не объяснил, отчего летом воздух мутный.
Я уж не говорю, сколько тут упоительно интересных вещей сказано собственно о книгах.
Такого вы, думаю, не знали и не узнали б никогда, если б не это сочинение.
Откроем, как принято говорить, наугад (тем более что действительно почти наугад – там такое чуть ли не на каждой странице встречается).
«Николай Иванович, – хвастается лирический герой рябовской книжки. – Мне повезло на той неделе купить непонятную небольшую книжечку “Анекдоты об атамане Платове”. Так вот на ней год выпуска указан 1813-й, а больше никаких выходных данных нету: ни типографии, ни места выхода, ни цензурного разрешения. Она небольшая, с палец толщиной, в цельнокожаном переплете. Я ходил в нашу городскую библиотеку, да не нашел там ничего про эту книжку. А вот старичок у нас есть один – Богданов, так он мне сказал, что, вполне возможно, она выпущена полевой типографией фельдмаршала Кутузова».
«Давайте по порядку, – отвечает этот самый Николай Иванович. – Походную типографию Кутузова возглавлял Андрей Кайсаров, и печатал он в ней военные донесения императору и листовки для партизан на русском и для французов на французском языке. Андрей Кайсаров – личность замечательная, он стал даже одним из героев “Войны и мира” Толстого. Их было четыре брата, Кайсаровых, и до нападения Наполеона, когда все они записались в военную службу, как и полагалось нормальным дворянам, Андрей Кайсаров играл заметную роль в русском литературном процессе. Наверное, можно и так сказать! Он был другом Андрея Тургенева и Василия Жуковского, к его мнению прислушивались Мерзляков и Воейков. Летом тринадцатого года, уже после смерти Кутузова, Кайсаров был смертельно ранен, и походная типография приказала долго жить. И, чтобы в этой типографии печатали какую-то книгу об атамане Матвее Платове, я в первый раз слышу».
Времена сменяются, а загадки остаются все теми же, и нынешние Кайсаровы тоже заботятся о будущих библиофилах, чтоб им не было скучно.
«Шура, – рассказывает Рябов, – выполнял полусекретный приказ командования и охранял в маленьком городке в Альпах, название которого ему приказано было навсегда забыть, лучшую в мире типографию. По крайней мере оборудование и отработанные технологии были уникальными.
От нечего делать командование печатало изредка в этой типографии разные замечательные книги: то “Василия Теркина” с рисунками Верейского, то “Сказки” Гауфа, то двухтомник “Консуэло” в совершенно фантастическом и необычном оформлении на дорогих эстетских сортах бумаги: или “верже”, или “лен”, а то и с водяными знаками. Название издательства, время и место в выходных данных книги при этом отсутствовали, их заменяла одна скромная, но многозначительная фраза: “Набрано и отпечатано под наблюдением майора Кузенкова А.В.” – это был творческий псевдоним Шуры там, в Европе».
Не уверен, что человек, равнодушный к книгам и историям книг, получит ту радость, что получил я, – но всякий библиоман не оценить это не сможет.
А какие люди в этой книге встречаются!
Начитаешься – как вина напьешься. Выйдешь в город и все ждешь, что увидишь идущего навстречу Глухаря на Покровке. Или Мика и Мака позовут на танцы. Или попадется Чарли, что так и ходит доныне с ножом. Я, к слову, знаю этого Чарли. Отличный мужик и великий поэт. Без ножа только теперь.
Нож в руке у поэта, старую женщину, читавшую детям году в 1958-м Игоря Северянина, таинственного Сефарда и нижегородского Серафима, байки, шутки, пьянки и голоса тех людей, которых мы не услышали бы никогда, если б не эта книга, нам сохранил Олег Рябов.
Нескончаемая благодать
Замечательный писатель Сергей Есин заметил как-то в своих дневниках, что классическое кино чаще всего снимается по классическим произведениям: от «Крестного отца» до «Войны и мира». И исключения в данном случае лишь подтверждают правила.
Ну да, согласился я внутренне: какой сценарист, будь он хоть семи пядей во лбу, даст столько простора, столько воздуха и такое (бесконечное!) количество интерпретаций поступков, слов и жестов героев, сколько могут дать Чехов или Гоголь.
Авторский сценарий один раз черпнул, и все – черпак неприятно скрежещет по дну; второй раз за использованный сценарий никто никогда не возьмется.
А классика!
Вот, скажем, недавно отмечали юбилей Гоголя, показали сразу три экранизации «Ревизора»: 1996 года (где Хлестаков и городничий – Евгений Миронов и Михалков), «Инкогнито из Петербурга» 1977 года, срежиссированное Леонидом Гайдаем (где Хлестаков и городничий соответственно Мигицко и Папанов) и «Ревизор» 1952 года (в главных ролях Игорь Горбачев и Толубеев). Наверное, еще и телеспектакль с Андреем Мироновым в роли Хлестакова был.