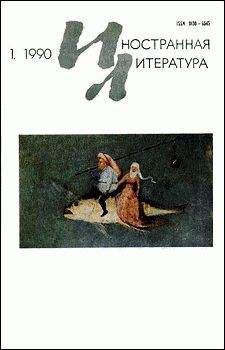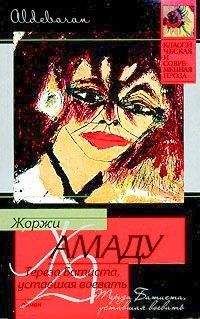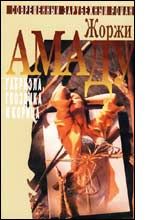Виталий Шенталинский - Рабы свободы: Документальные повести
Процедура допроса состояла из двух частей: сначала Булгаков собственноручно заполнил анкету и затем отвечал на вопросы по существу дела — ответы фиксировал на бумаге его визави. Непонятно только, в качестве кого он допрашивался, в протоколе записаны два слова: «обвиняемого/свидетеля», и ни одно не вычеркнуто — понимай как хочешь!
Из протокола допроса:
…На первоначально предложенные вопросы показал:
…Год рождения — 1891.
Происхождение — сын статского советника, профессора Булгакова…
Род занятий — писатель-беллетрист и драматург…
Имущественное положение — нет.
Образовательный ценз — Киевская гимназия в 1909 г., Университет, медфак в 1916 г.
Партийность и политические убеждения — беспартийный.
Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях.
Где жил, служил и чем занимался —
…с 1914 г. до Февральской революции 1917 г. — Киев, студент медфака до 1916 г., с 1916 г. — врач;
…в Февральскую революцию 1917 г. — село Никольское Смоленской губ. и город Вязьма той же губ.; с Февральской революции 1917 г. до Октябрьской революции 1917 г. — Вязьма, врачом в больнице;
…в Октябрьскую революцию 1917 г. — то же, участия не принимал;
с Октябрьской революции 1917 г. по настоящий день — Киев, до конца августа 1919 г. С августа 1919 до 1920 г. во Владикавказе. С мая 1920 по август в Батуме в РОСТе[63], из Батума — в Москву, где и проживаю по сие время.
Сведения о прежней судимости — в начале мая сего года производился обыск.
Показания по существу дела:
Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России (подчеркнуто в ОГПУ. — В.Ш.). С Освагом[64] связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отстипление которых я смотрел с ужасом и недоумением.
В момент прихода Красной Армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Советской властью, заведуя ЛИТО Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал.
По приезде в Москву поступил в ЛИТО Главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в альманахе «Недра» под заглавием «Дьяволиада», печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напечатанные в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшуюся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах»…
«Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и не допечатана вследствие закрытия, т. е. прекращения, толстого журнала «Россия».
«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как попала под влияние фракции. Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» т. Ангарскому, и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в «Зеленой лампе». В «Никитинских субботниках» было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание.
— Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка? — добивался нужного ответа Гендин и получил:
— Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.
Зато на другой вопрос: «Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке „Зеленая лампа“», — Булгаков отвечать не захотел:
— Отказываюсь по соображениям этического порядка.
Гендин дал ему подписать каждую страницу протокола, что тот и сделал: «Записано с моих слов верно, записанное мне прочитано».
Были и еще вопросы. Больше всего секретного уполномоченного интересовало, почему Булгаков не пишет о рабочих и крестьянах, а только об интеллигенции и отчего у него такое злое перо. И тут допрашиваемый высказался не виляя — настолько открыто и даже резко, что Гендин тут же подсунул ему бумагу и предложил изложить свои взгляды самому. И Булгаков написал на отдельном листе (он приложен к протоколу) размашистым, решительным почерком:
На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.
Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.
Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание потому, что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик).
Собственноручные показания М. А. Булгакова
22 сентября 1926 года
Документ исключительной важности! Это не фальшивка лубянских сочинителей, Булгаков сам говорит о своей жизни, откровенно и чеканно излагает свое кредо.
«Физиономия выявлена» исчерпывающе. «Несомненный белогвардеец», — как сказано в «Меморандуме».
О возвращении рукописей в протоколе ни слова. Речь об этом на допросе, конечно, шла, не могла не зайти, и, скорее всего, что-то Булгакову туманно было обещано: разберемся, мол, посмотрим, известим… Но отдавать их на самом деле вовсе не собирались: это была откровенная улика, свидетельство неблагонадежности писателя, а если прибавить сюда протокол допроса, можно крепко держать на крючке и выдернуть — на сковородку — в любой момент.
Сам же колебатель государственных устоев вовсе не собирался делать тайну из навязанного ОГПУ общения. Один из вездесущих гепеуховых донесет, что вызов Булгакова на Лубянку вовсю обсуждается в московских литературных кругах, что Булгаков подробнейшим образом рассказал о допросе известному писателю Смидовичу-Вересаеву. Во время допроса ему казалось, что «сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить», в конце концов ему заявили, что «если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы», а когда он вышел из ГПУ, то видел, что за ним идут.
«Передавая этот разговор, — добавляет Гепеухов, — писатель Смидович заявил: „Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: „Ничего“, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку“».
«Таково настроение литературных кругов. Сведения точные. Получены от осведома», — подводят черту чекисты.
Булгаков не только ничего не скрывал, но больше того — предупредил тех, кому, по его мнению, грозила опасность. Сообщил, например, на заседании литературного кружка у Зайцева: вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание и его нужно закрыть (об этом свидетельствует в своих мемуарах Зайцев).
Семен Гендин водружает над столом свою многодумную голову. Делает выписку из очередной агентурной сводки № 290 от 5 октября 1926-го:
…Линия борьбы с гегемонией пролетарской идеологии все более и более выкристаллизовывается.