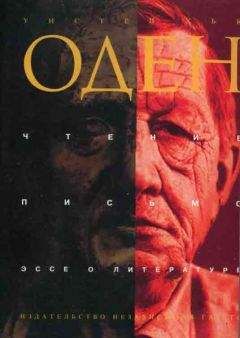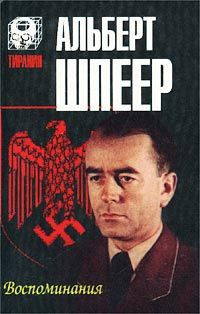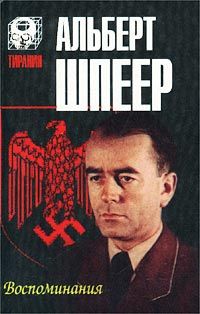Уистан Оден - Стихи и эссе
Леонт — классический пример человека, сведенного с ума ревностью, вызванной тем, что он вынужден подавлять свои гомосексуальные чувства. У него нет абсолютно никаких доказательств того, что Гермиона и Поликсен находятся в любовной связи, да и все его придворные уверены в их невиновности, но он проявляет стойкую приверженность своим фантазиям. "Твои поступки — вот мое безумье", — признается он Гермионе. Но, как бы он ни был безумен, все же "девять новолуний" — то время, что Поликсен провел при дворе короля Богемии, — допускают вероятность физической неверности, и, однажды допустив такую мысль, он уже не может отделаться от нее, как бы все — и Гермиона, и Поликсен, и придворные — ни старались убедить его в обратном. Остается только обратиться к оракулу.
Постум — человек здравомыслящий, это Якимо заставляет его поверить в измену Имогены, предъявив неоспоримые доказательства ее неверности.
Но оба они — и безумный Леонт и нормальный Постум — реагируют на новость примерно одинаково: "Жена изменила мне — следовательно, ее нужно убить и забыть". То есть они вынуждены отказаться от супружества, а в остальном их жизнь после этого течет своим чередом — один продолжает править, другой — воевать.
В "Отелло" благодаря уловкам Яго Кассио и Дездемона ведут себя так, что Отелло вполне может заподозрить, что они любят друг друга, но временной фактор исключает возможность фактической измены. Некоторые исследователи считают, что ускоренный ход времени в пьесе всего лишь прием, который драматург использовал, чтобы придать действию больше живости — зритель этого якобы не заметит. Но на мой взгляд, Шекспир как раз хотел, чтобы публика это заметила, точно так же как, например, в "Венецианском купце" он намеренно указал на разницу между бельмонтским и венецианским временем.
Если бы Отелло действительно мучился ревностью из-за того, что Дездемона, как ему кажется, любит Кассио, это было бы нормально, его не в чем было бы упрекнуть, разве что в том, что он недостаточно доверяет жене. Но Отелло не просто ревнует к чувствам, которые могли бы быть на самом деле, — он требует доказать невозможное, и когда он поверил в невозможное как в свершившийся факт, он так потрясен, что ему мало убить ее: не только жена — весь мир, кажется, предал его, жизнь потеряла для него смысл — он отслужил.
Такая реакция была бы объяснима, будь Отелло и Дездемона такой парой, как Ромео и Джульетта или Антоний и Клеопатра, которые любили друг друга до самозабвения, или как Тристан и Изольда, но Шекспир предупреждает нас, что в данном случае это не так.
Когда Отелло, отправляясь на Кипр, просит разрешения взять с собой Дездемону, он старается подчеркнуть духовный характер своего чувства:
Сенаторы, прошу вас, согласитесь.
Тут не своекорыстье, видит Бог!
Я не руковожусь влеченьем сердца,
Которое сумел бы заглушить.
Но речь о ней. Пойдемте ей навстречу[634].
Хотя Отелло выражает свою ревность с помощью образов, связанных с плотской любовью (в его ситуации другие образы трудно представить), в браке с Дездемоной главное для него вовсе не интимная близость. Этот брак стал подтверждением того, что венецианское общество принимает его как своего, как брата. В глубине его сознания есть подозрение настолько ужасное, что его приходится скрывать и всячески заглушать, — подозрение, что с ним считаются лишь постольку, поскольку он приносит пользу государству. И если бы не его должность, с ним бы обращались как с каким-нибудь чернокожим варваром.
Как говорит нам Яго, Отелло всегда отличался чрезмерной доверчивостью и добродушием, но это одна видимость. Ему необходимо было проявлять чрезмерную доверчивость, чтобы компенсировать иное, подсознательное чувство — подозрительность. И в состоянии счастливого блаженства, каким он предстает перед нами в начале пьесы, и в состоянии глубокого отчаяния, каким мы видим его позже, он напоминает нам скорее Тимона Афинского, чем Леонта.
Поскольку для Отелло главное — чтобы Дездемона любила его просто как человека, таким, каков он есть, Яго постарался внушить ему, что это не так, — и все накопившиеся с годами тайные страхи и обиды вдруг выплеснулись наружу, и теперь уже неважно, что она сделала или чего не сделала.
Яго обращается с Отелло как психоаналитик со своим пациентом, с той лишь разницей, что он хочет не исцелить, а убить. Все, что он говорит, служит одной цели: донести до сознания Отелло, что все, о чем тот подозревал, свершилось. Поэтому он может и не лгать. Даже его монолог, начинающийся словами: "Я как-то с Кассио лежал… возможно, правдивый пересказ реального разговора, мы знаем характер Кассио и можем себе представить, что он действительно мог видеть такой сон, о котором рассказывает Яго. Даже доведя Отелло до такого состояния, когда ему можно говорить что угодно, не боясь быть пойманным на слове, Яго отвечает уклончиво, предоставляя Отелло домысливать продолжение:
Отелло
Но все-таки…
Яго
Он говорил…
Отелло
Итак?
Яго
Что он лежал…
Отелло
С кем? С ней?
Яго
Да. Нет. Увольте[635].
Никто не может представить Леонту доказательств, что его подозрения беспочвенны. Точно так же и у Отелло (к этой мысли его постепенно подводит Яго) нет никаких доказательств, что Дездемона на самом деле такая, какой кажется.
В первый раз Яго намекает на это, когда со знанием дела рассуждает о венецианских нравах и попутно напоминает Отелло, как Дездемона обманула бдительность отца.
Яго
Я вдоволь изучил венецианок!
Лишь небу праведному видно то,
Чего мужья их не подозревают.
Стыда в них нет, лишь след бы замести.
Отелло
Ты вот о чем?
Яго
А что ж, супруга ваша
Другая, полагаете? Она
Отца ввела пред свадьбой в заблужденье.
Сгорала к вам любовью, а сама
Прикидывалась, что терпеть не может.
Отелло
Да, это так.
Яго
Вот я и говорю:
Когда до брака так она хитрила,
Что дело представлялось колдовством,
Что ж после брака?[636]
А чуть позже он прямо говорит о разнице между нею и мавром:
Естественно ли это отчужденье
От юношей ее родной страны?
Не поражают ли в таких примерах
Черты порока, извращенья чувств?
Я это отношу не к Дездемоне,
О ней определенных данных нет.
Но есть опасность, как бы отрезвевши
И сравнивая вас и земляков,
Она не пожалела[637].
Теперь, когда Отелло засомневался в искренности Дездемоны, ее правдивые ответы не уменьшат его подозрительности, а ложь в ее устах лишь подтвердит его правоту. Этим объясняется тот страшный эффект, который производят ее слова, когда она отказывается признать, что потеряла платок.
Разуверившись в ней, Отелло не может больше верить никому и ничему, и в чем она конкретно провинилась, значения не имеет. В сцене, где Отелло прикидывается, будто замок — это бордель, а Эмилия — его хозяйка, он обвиняет Дездемону не в том, что она изменяла ему с Кассио, а в том, что будто бы участвовала в каких-то невообразимых оргиях.
Дездемона
Скажи, в чем грех мой? Что я совершила?
Отелло
Ты для того ль бела, как белый лист,
Чтоб вывести чернилами: "блудница"?
Сказать, в чем грех твой, уличная тварь,
Сказать, отребье, что ты совершила?
Стыдом я щеки раскалю, как горн,
Когда отвечу. Выговорить тошно[638].
И, как указывает Элиот, в своей прощальной речи он говорит не о Дездемоне, а о своей любви к Венеции и в самом конце представляет себя чужестранцем, турком-мусульманином, который "бил венецианца и поносил сенат"[639].
Дездемону все жалеют, но я вот никак не могу полюбить ее. Ее намерение выйти замуж за Отелло, — ведь, по сути, именно она сделала предложение, — похоже на романтическое увлечение школьницы, а не на чувство взрослого человека: необыкновенная жизнь Отелло, полная удивительных приключений, пленила ее воображение, а что он за человек — это было для нее не так важно. Он мог и не прибегать к ворожбе — она и без того была очарована. И пускай Брабанцио полон предрассудков, ее обман не делает ей чести, и Шекспир не дает нам забыть об этом: мы узнаем, что отец ее умер вскоре после свадьбы Дездемоны — такой это был для него страшный удар.