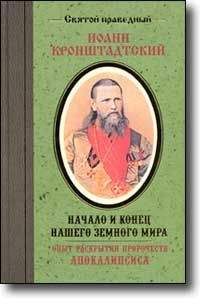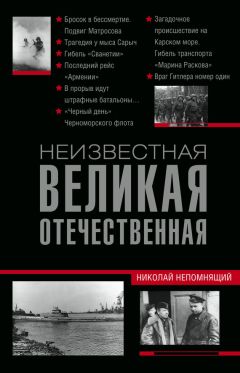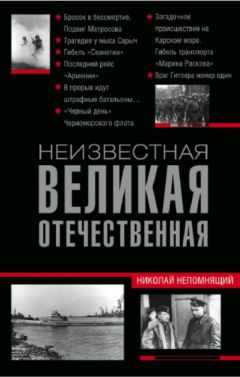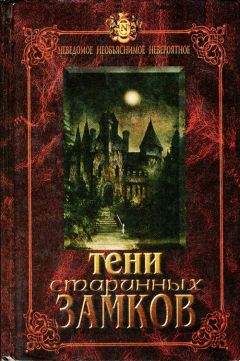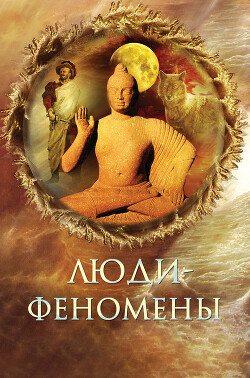Великая книга пророков: Книга 1. Видевшие сквозь время - Непомнящий Николай Николаевич
Мы перечислили лишь те сочинения, которые известны в своем подлинном виде; вместе с утраченными они составляют довольно солидный список, свидетельствующий о широкой осведомленности наших далеких предков в азах астрологии.
К XVI столетию на Руси появляются и первые профессиональные астрологи. Их появлению предшествовали «великие страхи и скорби», охватившие все христианское человечество на исходе предыдущего века и связанные с истечением седьмого тысячелетия «от сотворения мира» (по библейскому календарю). Русские книжники и звездочеты, охваченные общим поветрием, также вычислили точный срок грядущего светопреставления. Он назначался на промежуток между 12 июля 1492 г. и 27 января 1493 г. Когда же роковой рубеж был пройден без видимых потрясений на земле и на небе, страсти поулеглись, но спрос на астрологию и астрологов сохранился. Особенно велик он был в западнорусских землях, и прежде всего в Новгороде, где контроль церкви над умами верующих не был таким жестким, как в Москве. К тому же с Запада сюда активно проникали всевозможные еретические учения и доктрины, в т. ч. и оккультного свойства, встречавшие здесь тем более радушный прием, что в народе еще не были забыты предания и мифы языческой старины. Поэтому неудивительно, что именно отсюда пришли к нам сведения о первом русском астрологе. Имя его долгое время было крепко забыто и всплыло из небытия лишь совсем недавно, когда из одного старинного рукописного собрания был извлечен сборник текстов астрологического и прогностического содержания, подписанный: «Творение грешного раба Иоанна Рыкова… написано во граде Пскове в лето Господне 1579».
Основную часть этого сборника занимает гадательная книга «РАФЛИ», долгое время считавшаяся утерянной и известная лишь по спискам «отреченных книг». Использованный в ней метод гадания по комбинациям произвольно нанесенных на бумагу точек и черточек ученые не без основания сравнивают со знаменитой китайской «Книгой перемен». В пояснительном тексте к «Рафлям», посвященным методам интерпретации полученных результатов, Иван Рыков обильно цитирует астрологические источники, как почерпнутые из греческих рукописей, так и собственно русские. Специальный раздел отведен изложению античных мифов, связанных с богами, чьи имена носят планеты; при этом русский книжник допускает порой забавные и даже пикантные ошибки, связанные с недостаточным знанием греческого языка. К примеру, о Юпитере (Зевсе) сообщается, что он «любодействовал с мертвыми женами» и «есть злой блудник, яко и мертвых девиц красных во фобах не спущал». Это жуткое обвинение возникло из-за неверного понимания иноязычного оборота, где имелись в виду, конечно, не «мертвые», а всего лишь «смертные» женщины. Собственно же русские главы сочинения Ивана Рыкова интересны, в частности, тем, что они сохранили бытовавшие в народе названия небесных светил. Так, Юпитер звался «царской» звездой, Венера — «светоносицей», а упоминаемая мимоходом загадочная «звезда Прикол» является, очевидно, альфой Большой Медведицы.

«Весна» и «Лето». Аллегорические изображения времен года из зодиакального календаря.
XVII в.
В целом анализ рыковского сборника и родственных ему текстов позволяет утверждать, что сакральные знания были на Руси не самоцелью, а носили преимущественно прикладной и сугубо «заземленный» характер. Это объясняется, несомненно, суровостью и переменчивостью климатических условий на Руси, отвращающей от абстрактной и беспочвенной созерцательности.
О том, как развивалась астрология в течение следующего столетия, сохранились лишь отдельные обрывочные сведения. Несомненно, социальные катаклизмы эпохи Смутного времени отнюдь не способствовали ее распространению. Признаки оживления интереса к этой теме наблюдаются лишь со второй половины XVII столетия, вместе с общим подъемом духовных запросов и интересов. Любопытно, что русское духовенство на этот раз не осталось в стороне. Так, протопоп Аввакум обнаружил свое знакомство с астрологическими текстами в трактате «О сотворении мира», а среди бумаг его главного врага, патриарха Никона, имеется некое «Гаданье с предсказаниями по числам месяца», хранящееся в архивах и поныне. Но самое главное, что к астрологической премудрости в это время впервые апеллирует государственная власть в лице царя Алексея Михайловича, хотя в качестве авторитетного эксперта привлекается не отечественный, а иноземный «звездочтец» — немецкий врач Андреас Энгельхарт, обосновавшийся в России вместе со всем своим семейством и имевший в числе клиентов самых высокопоставленных придворных, включая «первых лиц».
Обращение царя к звездам было продиктовано прежде всего двумя обстоятельствами, смущавшими его покой: нестабильностью на западных границах, чреватой постоянными военными конфликтами, и угрожающими слухами о страшной чумной эпидемии, вспыхнувшей в Западной Европе к исходу 1664 г. Царь желал узнать, имеют ли к этим печальным событиям какое-либо отношение соединения небесных светил и возможно ли на основании анализа их конфигурации спрогнозировать дальнейшее развитие событий. В ответ он получил два обстоятельных послания, являющихся фактически первыми документами такого рода в царских архивах.

Алексей Михайлович. Гравюра Н.Лармессена
Энгельхарт в своих рассуждениях на столь щекотливые темы выказал немалое дипломатическое искусство. Основное место в его посланиях царю занимали не конкретные прогнозы политической ситуации, на чем тот особенно настаивал, а общие рассуждения о принципах астрологической прогностики. Особый упор астролог делал на зловещее влияние комет (одна из которых, «во образе змиевом, голова аки орловая… с двумя птичьими ногами», подоспела как раз к этому времени). Ориентировался иноземец и на так называемые «великие соединения» Сатурна и Юпитера в определенном участке неба, всякий раз предвещавшие грозные перемены в судьбах Земли. Эта часть Энгельхартовых посланий, написанная с большим знанием дела, до сих пор читается с неослабевающим интересом. Что же касается конкретных предсказаний о грядущих судьбах царствующих европейских династий, на которые все же осмелился астролог, то ни одно из них, увы, не сбылось. Впрочем, здесь Энгельхарта, скорее всего, подвели не звезды, а недобросовестные информаторы, с которыми он поддерживал постоянную связь из своего московского далека.
Вся эта история завершилась, насколько известно, безо всяких последствий и для самого Энгельхарта, и для России в целом, которую чумная зараза обошла стороной. Интересно, что иноземные путешественники вообще неоднократно отмечали особую благотворность московского климата: «Здесь воздух свежий и здоровый… о моровой язве не слыхали издавна».
Еще одним характерным признаком, свидетельствующим о том, что некогда гонимая астрология обрела к этому времени вполне респектабельный статус, стало также впервые отмечаемое проникновение астрологических идей, символов и образов в изящную словесность. Этому способствовал не кто иной, как первый профессиональный русский стихотворец Симеон Полоцкий (1629–1680), чьи поэтические проповеди на различные духовные и мирские темы пользовались немалым успехом при жизни автора, но после его смерти были преданы проклятию как «еретические» и по форме, и по содержанию.

Семеон Полоцкий. Гравюра начала XIX в.
Немалую роль в этом сыграли, конечно, и астрологические вирши Симеона, велеречиво и напыщенно излагающие основы «предивной науки звездной». Впрочем, астрология и астрономия были для Симеона понятиями взаимозаменяемыми, и провести четкую грань между первым и вторым в его стихах не представляется возможным — за одним-единственным исключением.