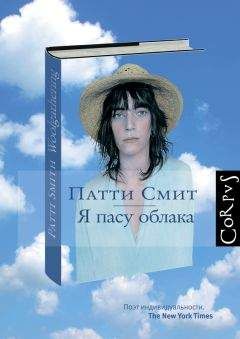Патти Смит - Поезд М
А когда открыла глаза, мне померещилось, что горничная сидит на стуле у моей кровати и бьется в истерике от смеха. Потрясает в воздухе несколькими страницами рукописи, которую я вечером засунула под подушку. Я моментально прониклась неприязнью. Мало того, что она читает мои странички – но исписаны они на испанском, вроде бы моим почерком, однако мне не понять ни слова. “Что же я такое написала?” – гадала я: просто не могла уразуметь, что ее так развеселило. “Что тут смешного, черт подери?” – резко спросила я, хотя вообще-то была готова смеяться вместе с ней – такой милый был у нее смех.
– Это же стихи, – ответила она, – стихи, в которых совершенно нет поэзии.
Я опешила. Как это понимать – хорошо это или плохо? Горничная уронила мои листки на пол. Я встала, подошла вслед за ней к окну. Она потянула за тонкий шнурок, привязанный к сетчатой сумке, в которой бился голубь.
– Обед! – победоносно вскричала она, перекинув сумку через плечо.
Приближаясь к двери, она, казалось, с каждым шагом уменьшалась, пока ее платье не упало на пол, а она выскользнула из его выреза и пошла дальше, крошечная, не крупнее ребенка. Метнувшись к окну, я увидела, как она перебегает проспект Веракрус. Я обомлела. Воздух был – само совершенство, подобный грудному молоку великой матери. Молоку, которым могут питаться все ее дети – младенцы из Хуареса и Гарлема, Белфаста и Бангладеш. Мне все еще слышался смех горничной: беспечные тихие звуки, которые материализовывались в виде прозрачных клочков, словно пожелания из другого мира.
Утром я проанализировала свое самочувствие. Казалось, худшее уже позади, но я чувствовала слабость и последствия обезвоживания, а основание черепа теперь сверлила мигрень. Когда приехала машина, чтобы отвезти меня в Синий дом, я подумала: надеюсь, боль оставит меня в покое, даст мне выполнить работу. Когда директриса поздоровалась со мной, я вспомнила свое молодое “я”: как стояла перед синей дверью, которая так и не распахнулась.
Хотя теперь Синий дом превращен в музей, атмосфера, в которой жили два великих художника, там сохраняется. В мастерской мне уже все приготовили. Платья и кожаные корсеты Фриды Кало были разложены на белых полотнищах. Ее пузырьки с лекарствами стояли на столе, ее костыли у стены. Внезапно я почувствовала тошноту и головокружение, но несколько снимков все-таки сделала. Снимала второпях, при вечернем освещении, сунула полароидные снимки в карман, не снимая с них защитный слой.
Меня провели в спальню Фриды. Над изголовьем кровати висели бабочки в рамках, чтобы она могла видеть их лежа. Их подарил скульптор Исаму Ногути, чтобы Фрида могла смотреть на что-то красивое после того, как ей ампутировали ногу. Я сфотографировала кровать, место стольких ее мучений.
Я больше не могла скрывать недомогание. Директриса налила мне стакан воды. Я уселась в саду, подперев голову руками. Чувствовала, что вот-вот упаду в обморок. Посоветовавшись с коллегами, директриса настояла на том, чтобы я отдохнула в спальне Диего. Я пыталась возразить, но язык меня не слушался. Кровать была скромная, деревянная, с белым покрывалом. Свою фотокамеру и небольшую стопку снимков я положила на пол. Две женщины завесили вход в комнату Диего длинным муслиновым полотнищем. Свесившись с кровати, я освободила снимки от защитного слоя, но смотреть на них было невмоготу. Лежала, думала о Фриде. Мне удалось почувствовать, что она совсем рядом, ощутить стойкость, с которой она переносила страдания, стойкость в сочетании с революционным энтузиазмом. В шестнадцать лет она и Диего были моими тайными проводниками. Я заплетала косы, как Фрида, носила соломенную шляпу, как Диего, а теперь дотронулась до ее платьев и лежу на кровати Диего.
Вошла женщина, накрыла меня шалью. В комнате был полумрак – так уж она расположена, и я, к счастью, заснула.
Директриса разбудила меня ласковым прикосновением, взглянула обеспокоенно:
– Скоро все соберутся.
– Не волнуйтесь, – сказала я, – теперь я прекрасно себя чувствую. Но мне понадобится стул.
Я встала, надела ботинки, подобрала снимки с пола: абрис костылей Фриды, ее кровать, призрак лестницы. На снимках был особый свет – атмосфера болезни. В тот вечер я сидела в саду перед почти двумя сотнями слушателей. Не могу внятно объяснить, о чем я говорила, но в финале спела им, как пела птицам на моем подоконнике. Песню, которая пришла ко мне, когда я лежала на кровати Диего. Песню о бабочках, которые Ногути подарил Фриде. Я увидела, как по лицам директрисы и других женщин, которые с такой нежной заботливостью хлопотали вокруг меня, льются слезы. По лицам, которых я теперь уже не помню.
Костыли Фриды Кало, Синий дом
Поздним вечером в парке напротив моего отеля происходила вечеринка. Головная боль у меня полностью прошла. Собрав чемодан, я выглянула в окно. Было только седьмое мая, но на деревьях висели крохотные рождественские электрогирлянды. Я спустилась в бар и выпила стаканчик совсем молоденькой текилы. В баре было пусто: почти все отправились в парк. Я просидела там долго. Бармен вновь наполнил мой стакан. Текила пилась легко, как цветочный сок. Я прикрыла глаза и увидела зеленый поезд с буквой “М”, вписанной в круг; поезд был тускло-зеленый, как спина богомола.
Платье, Синий дом
Как я потеряла “Заводную Птицу”
Зак оставил мне сообщение. Его пляжное кафе открылось. Для меня кофе бесплатно, сколько захочу. Я порадовалась, что мечта Зака сбылась, но ехать куда-либо как-то не решилась, поскольку дело было в длинные выходные на День памяти павших[25]. Город обезлюдел, а я как раз таким его и люблю, и в воскресенье покажут новую серию “Убийства”. Я решила заглянуть в кафе Зака в понедельник, а выходные провести в городе, в компании инспекторов Линден и Холдера. В моей спальне полный беспорядок, сама я – чумичка чумичкой, и что же – планирую морально поддержать инспекторов, которые безмолвно страдают, на тягомотном дежурстве в своем драндулете жадно хлещут холодный кофе, ведут наружное наблюдение, хотя все следы, подобно этому кофе, давно остыли. Сходила в корейскую кулинарию, набрала полный термос кофе, поставила его у кровати про запас, выбрала книгу на своей книжной полке и отправилась на Бедфорд-стрит.
В кафе ’Ino было пусто, и я с удовольствием сидела и читала роман Роберта Музиля “Душевные смуты воспитанника Терлеса”. Принялась размышлять над первой фразой: “Маленькая станция на линии, ведущей в Россию”, завороженная мощью незамысловатого предложения, которое невольно увлекает читателя через нескончаемые пшеничные поля к тропе, ведущей в логово садиста-хищника, который задумал убийство неиспорченного мальчика.
Я читала до вечера, а по большому счету бездельничала. Повар жарил чеснок, напевая песню на испанском.
– О чем эта песня? – спросила я.
– О смерти, – ответил он со смехом. – Но вы не расстраивайтесь: все остаются живы, она про смерть любви.
В День памяти павших я проснулась рано, привела спальню в порядок и уложила в мешок все необходимое: темные очки, бутылку щелочной минералки, маффин с отрубями и мою “Заводную Птицу”. На станции метро “Западная Четвертая улица” села на поезд маршрута “А”, доехала до “Брод Чэннел”, сделала пересадку; весь путь занял пятьдесят пять минут. Кафе Зака было единственным на уединенном отрезке, который мэрия выделила арендаторам на длинном променаде, что тянулся вдоль пляжа на Рокуэй-Бич. Зак обрадовался мне, со всеми меня познакомил. А потом, как и обещал, подал мне бесплатный кофе. Я пила этот черный кофе стоя, глазея на окружающих. Атмосфера была беспечная, расслабленная, в приветливой толпе смешались раздолбаи-серфингисты и семьи рабочих. Я удивилась, заметив, что в мою сторону катит на велосипеде мой друг Клаус. Он был в рубашке с галстуком.
– Ездил в Берлин навестить отца, – сказал он. – Я только что из аэропорта.
– Ну да, аэропорт Кеннеди тут под боком, – засмеялась я, глядя, как самолет, летящий низко-низко, заходит на посадку.
Мы уселись на скамью и стали смотреть, как маленькие дети пытаются оседлать волны.
– Основной пляж для серфинга тут рядом, около пристани – всего в пяти кварталах.
– Похоже, ты хорошо знаешь этот район.
Клаус вдруг посерьезнел:
– Ты не поверишь, но я только что купил здесь, у залива, старый викторианский дом. С громадным двором – посажу гигантский сад. В Берлине или на Манхэттене я никогда бы не смог обзавестись садом.
Мы пересекли променад, Клаус взял себе кофе.
– А Зака ты знаешь?
– Все знают всех, – сказал он. – Тут настоящая община.
Мы распрощались, и я пообещала, что в ближайшее время приеду посмотреть его дом и сад. Честно говоря, мне самой мгновенно полюбился этот район с бесконечным променадом, с кирпичными муниципальными многоэтажками, которые смотрят на океан. Я сняла ботинки и прогулялась по берегу. Океан я всегда обожала, но плавать так и не научилась. Пожалуй, единственный раз я погружалась в воду, когда меня крестили, – погрузилась вынужденно, испытывая страдания. Спустя почти десять лет вспыхнула эпидемия полиомиелита. Поскольку в детстве я много болела, мне запрещали ходить в бассейн или на мелководные озера с другими детьми – ведь считалось, что вирус полиомиелита распространяется через воду. Океан стал для меня единственной отдушиной: мне разрешалось гулять и резвиться на пляже при условии, что в воду я – ни ногой. Со временем инстинкт самосохранения приучил меня бояться водоемов, а позднее – и погружения в воду.