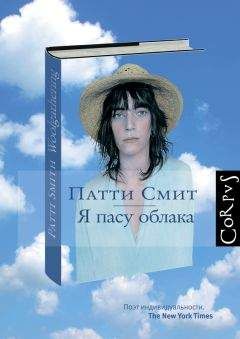Патти Смит - Поезд М
Потом я вспомнила, что в реальной жизни Пэт Сейджак не переворачивает буквы. Правда, можно поспорить, считается ли телевикторина реальной жизнью. Общеизвестно: буквы переворачивает не Пэт, а Ванна Уайт. Но я позабыла этот факт и, что еще хуже, даже под дулом пистолета не смогла бы припомнить лицо Ванны хотя бы приблизительно. Мне удалось вытащить из памяти целую процессию облегающих сверкающих платьев, но лицо Ванны ускользнуло, и я встревожилась: стало не по себе, как будто власти допытываются, где ты находилась в конкретный день, а у тебя нет железного алиби. Я была дома, ответила бы я слабым голосом, смотрела, как Пэт Сейджак переворачивает буквы, из которых складываются слова, которых я не могу понять.
За мной приехала машина. Запираю чемодан, засовываю паспорт в карман, сажусь на заднее сиденье. Улицы забиты, перед тоннелем Холланда долго ждем, когда удастся проскользнуть внутрь. Принимаюсь размышлять о руках Пэта Сейджака. Есть теория, что увидеть во сне собственные руки – к счастью. Вот знамение, о котором стоит мечтать, но примета касается твоих собственных рук, а не крупного плана рук Пэта, выполняющих обязанность, которая вообще-то возложена на Ванну. Потом я задремала, и мне приснился совершенно другой сон. Я в лесу, деревья увешаны священными украшениями, поблескивающими на солнце. Украшения слишком высоко, не дотянешься, и я стряхиваю их длинным деревянным посохом, который подвернулся кстати – валялся на траве. Когда я тычу посохом в густую листву, десятки крохотных серебряных рук сыплются дождем вниз и падают к моим ботинкам. На мне потертые полуботинки на шнуровке, вроде тех, которые я носила в начальной школе, и, наклонившись, чтобы подобрать руки с травы, я вижу черную гусеницу, ползущую по моему носку вверх.
Когда машина подъехала к терминалу “А”, я опешила. “Мне действительно сюда?” – спросила я. Водитель что-то пробурчал, и я вылезла из машины, проверила, не забыла ли шапку, и вошла в терминал. Оказалось, меня высадили не с той стороны, и в поисках нужной стойки пришлось протискиваться сквозь толпу: людей сотни, и все устремляются неведомо куда. Девушка за стойкой настойчиво советовала мне воспользоваться киоском саморегистрации. Не знаю уж, где я шлялась последние десять лет, но когда это концепция “киоска” проникла в аэропорты? Я хочу получить посадочный талон от живого человека, но девушка настаивала, что я должна ввести свои данные на экране этого треклятого киоска. Пришлось перерывать сумку в поисках очков для чтения, а потом, когда я ответила на все вопросы и отсканировала паспорт, киоск предложил мне доплатить сто восемь долларов, чтобы утроить количество миль. Я нажала “нет”, и на экране все замерло. Пришлось сказать об этом девушке. “Жмите, жмите снова”, – ответила она. Потом посоветовала попробовать другой киоск. Я начинала нервничать, мой посадочный талон застрял в аппарате, и девушке пришлось выковыривать его авторучкой со слоганом “Летайте в добрых небесах”. В итоге девушка победоносно протянула мне талон: сморщенный, похожий скорее на засохший лист салата. Я дотопала до рамки, вынула компьютер из футляра, сняла шапку, часы и ботинки, положила все это в контейнер вместе с целлофановым пакетом, где у меня лежали зубная паста, розовый крем и пузырек “пауэриммун”, прошла через рамку, забрала свои вещи из контейнера и, наконец, села в самолет на Мехико.
Около часа мы просидели на рулежной дорожке под песню “Shrimp Boats”, которая крутилась в моей голове. Я учинила себе допрос. Почему я так раскипятилась во время регистрации? Почему я хотела, чтобы девушка лично выдала мне посадочный талон? Почему я не могу попросту усвоить, как сделать это самой через киоск? На дворе двадцать первый век, все делается по-новому. Мы готовились к взлету. Меня отчитали за то, что я не пристегнулась. Надо было скрыть незастегнутый ремень, накинув сверху пальто, но я попросту забыла. Ненавижу, когда мои движения сковывают, особенно ради моей собственной пользы.
Я прилетела в Мехико, и меня доставили на машине в мой район. Заселилась в гостиницу: разбила лагерь в номере на третьем этаже, с видом на небольшой парк. В ванной было широкое окно, и я подметила: люди внизу, на которых я смотрю, поднимают головы, сами смотрят на меня. Я устроила себе поздний ланч, предвкушая мексиканскую еду, но в меню отеля преобладали японские кушанья. Это озадачивало, но странным образом вписывалось в ощущение места: читать Мураками в мексиканском отеле, где суши – коронное блюдо. Я заказала такос с креветками и гарниром из васаби, а из напитков – стаканчик текилы. Потом вышла из отеля и обнаружила, что нахожусь на проспекте Веракрус; это вселяло надежду, что я найду хороший кофе. В скитаниях по городу мне попалась витрина, заваленная гипсовыми руками телесного цвета. “Должно быть, я именно там, где мне суждено”, – догадалась я, хотя очертания всего вокруг слегка двоились, словно фигура Волшебника Мандрагоры[23] в комиксах в воскресной газете.
Приближались сумерки. Я бродила взад-вперед по тенистым улицам, мимо фургонов, где продавались такос, и газетных киосков, где продавались журналы о рестлинге, цветы и лотерейные билеты. Утомилась, но все же задержалась ненадолго в парке на другой стороне проспекта Веракрус. Рыжий беспородный пес, не крупный, но и не маленький, вырвался от своего хозяина и практически прыгнул на меня. Я почувствовала, как взгляд бездонных карих собачьих глаз проник в мою душу. Хозяин тут же забрал пса, но тот рвался с поводка, пытаясь не потерять меня из виду. Как легко, подумала я, влюбиться в животное. Внезапно на меня навалилась сильная усталость. Все-таки я с пяти утра была на ногах. Я вернулась в номер, который в мое отсутствие прибрали. Одежда аккуратно сложена, грязные носки замочены в раковине. Я бухнулась на кровать, не раздеваясь. Вспомнила рыжего пса: интересно, увижу ли я его снова? Закрыла глаза и медленно растворилась во сне. Назад меня вернул шум: кто-то кричал в гнусавый рупор. Бестелесные слова, принесенные ветром, примостились на моем подоконнике, словно полоумный почтовый голубь. Первый час ночи – странное время для обращений в рупор.
Проснулась я поздно, пришлось собираться второпях: я ведь была приглашена в американское посольство. Там мы пили тепловатый кофе и вели, с переменным успехом, разговоры о культуре. Но вот что меня потрясло – то, что рассказал один стажер в последнюю минуту перед тем, как машина повезла меня в отель. Прошлой ночью в Веракрусе нашли убитыми двух мужчин, женщину и ребенка. Женщина-журналистка и ребенок были задушены, а мужчинам – один был журналист, другой телеоператор – разрезали животы, выпустив кишки. Перед моими глазами промелькнул пугающий образ телеоператора, тело которого убийцы наспех забросали землей: он приподнимается на локтях в темноте и обнаруживает, что одеяло на его кровати соткано из дерна.
Я проголодалась. В некоем кафе “Богема” перекусила чем-то, отдаленно похожим на “уэвос ранчерос”. Просто размокшие кукурузные чипсы, яичница и зеленая сальса в одной миске; тем не менее, я все это съела. Кофе был чуть теплый, с шоколадным послевкусием. Поворошив в памяти немногочисленные известные мне испанские слова, я кое-как сложила их в просьбу: más caliente[24]. Молодой официант широко улыбнулся и принес мне другую чашку: на сей раз с бесподобным горячим кофе.
В тот вечер я сидела в парке и пила арбузный сок из конического бумажного стаканчика, купленного у уличного торговца. Каждый смеющийся ребенок наводил на мысли об убитом ребенке. Каждый лающий пес казался мне рыжим. Вернувшись в номер, я обнаружила, что мне во всех подробностях слышна бурная жизнь, протекающая под окном. Я стала петь короткие песни птицам на моем подоконнике. Я пела для журналистов и оператора, и для женщины и ребенка, убитых в Веракрусе. Я пела для тех, кого бросают гнить в канавах, на свалках и помойках, словно компост для рассказа Боланьо, рассказа, который он успел задумать. Луна сделалась нерукотворным софитом, выхватила из тьмы жизнерадостные лица тех, кто собрался внизу в парке. Ветер подхватил их смех, вознес вверх, и на одно недолгое мгновение не стало ни скорби, ни страданий – было только чувство единения.
Около меня на кровати лежала “Заводная Птица”, но я ее даже не раскрыла. Вместо этого стала думать о фотографиях, которые сделаю в Койоакане. Заснула и увидела во сне, что у меня безупречная координация движений и молниеносная реакция. И вдруг проснулась, и оказалось, что я даже пальцем не могу пошевелить. Кишечник взрывался, на постель хлынула струя рвоты, а вдобавок голову разрывала парализующая мигрень. Встать с постели я не могла, так и валялась. Инстинктивно нащупала очки. К счастью, они остались целы.
Когда начало рассветать, я смогла приподнять с рычага телефонную трубку и сообщить портье, что сильно заболела и нуждаюсь в помощи. В номер вошла горничная, крикнула вниз, чтоб принесли лекарства. Помогла мне раздеться и помыться, отскребла ванную, сменила постельное белье. Я была ей безгранично благодарна. Горничная что-то напевала, пока выполаскивала мою испачканную одежду и вывешивала ее сушиться на карниз. Голова у меня все еще гудела. Я цеплялась за руку горничной. Ее улыбающееся лицо парило над моим… на этом моменте я провалилась в глубокий сон.