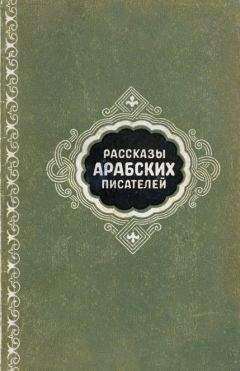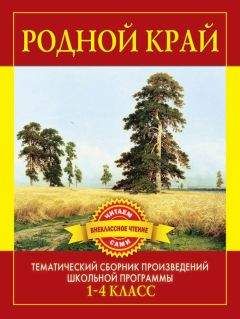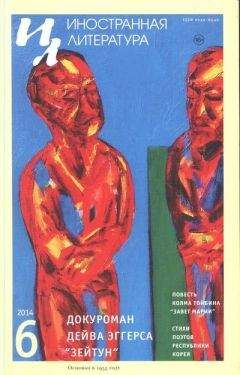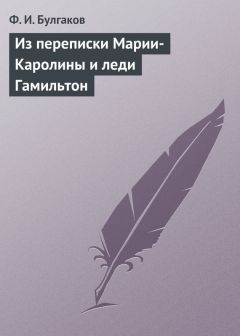Е Ермилова - Яков Петрович Полонский
Уже под конец жизни, объясняя в письме к Чехову, почему он печатался "в разных "Иллюстрациях", Полонский пишет: "Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство - и тогда только благоволят к нам, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь".
В критике по традиции еще порой говорят о социальной неполноценности, ущербности Полонского. И собственные его признания в "лавировании" как будто служат тому подтверждением. Между тем позиция Полонского, оказавшегося "между лагерями", говорит лишь о своеобразии его облика и органичности его пути: резко разошлись пути "гражданской" и "чистой" поэзии, что было для Полонского вовсе неприемлемым. Его знаменитая "Узница", скажем, которая обычно трактуется как "отражение политического либерализма", - просто живая и непосредственная боль за "молодость в душной тюрьме", продиктованная тем же чувством "участия", или "причастности", которым проникнута вся его поэзия:
Что мне она! - не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!
Точно так же неверно считать изменой гражданским, идеалам, скажем, его преклонение перед поэтическим миром Фета:
Там мириады звезд плывут без покрывала,
И те же соловьи рыдают и поют.
Само же "лавирование" в большой мере было вынужденным и внешним - между влиятельными журналами, от которых зависит печатание.
...Лишь под самый конец жизни предстает Полонский в каноническом облике "поэта-ветерана", признанного и почитаемого, окруженного молодежью, а 50-летие творческой деятельности (1887) отмечается торжественно и пышно...
Говоря о трудностях поэтической судьбы Полонского, нельзя не вспомнить и о драматизме его личной судьбы. В молодые годы, в хлопотах и беспокойстве по поводу рождения первенца, Полонский упал с дрожек и получил серьезную травму ноги, перенесенные им две мучительные операции не дали полного выздоровления, и Полонский до конца дней был обречен на костыли, а в конце концов почти на полную неподвижность.
Но самым страшным ударом была для него смерть его первой жены, горячо им любимой. Елена Устюжская, дочь псаломщика русской церкви в Париже, очаровала его сразу, и предложение он сделал очень скоро, почти сгоряча, хотя его и беспокоила материальная неопределенность и неустроенность его жизни. Красота и обаяние молоденькой жены Полонского (ей было 18 лет) поражает его близких знакомых. Постепенно восхищение молодой, почти детской прелестью переходит в удивление и восхищение характером. Елена сама кормит и нянчит ребенка: ведь она была старшей в многодетной и небогатой семье, и все ее младшие сестры и братья вынянчены ею. Однако больше всего, рассказывает Штакеншнейдер, трогает привязанность молодой женщины к ее больному мужу и та самоотверженность, с какой она за ним ухаживает. Кажется, что для Полонского наступила полоса безмятежного счастья. Но в начале 1860 года умирает его сын, а вскоре смертельный недуг постигает и Елену.
Стихи Полонского "Безумие горя", "Я читаю книгу песен" и другие, а также дневники Штакеншнейдер дают нам представление о глубине его отчаяния. Так, в "Безумии горя" Полонскому представляются два гроба:
Один был твой - он был уютно-мал,
И я его с тупым, бессмысленным вниманьем
В сырую землю опускал;
Другой был мой - он был просторен,
Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел,
И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха
Роскошно золоченая, горел.
Удивительно совпадает описание дня похорон в дневниках Штакеншнейдер с атмосферой стихов. "День тот был такой ослепительный и знойный. Солнце, точно какая-то страшная и расплавленная печать, жгло и светило, и кругом была какая-то томительная, без всякой тени зелень".
И порывался я очнуться - встрепенуться
Подняться - вечную мою гробницу изломать
Как саван сбросить это небо,
На солнце наступить и звезды разметать
И ринуться по этому кладбищу,
Покрытому обломками светил,
Ту да, где ты - где нет воспоминаний,
Прикованных к ничтожеству могил.
Полонский долго не мог оправиться от этого удара. Он даже какое-то время пытается заниматься спиритизмом, с его помощью он ищет... "сообщения с тем миром, в котором скрылась его жена".
Невзгоды его жизненного пути могли, казалось бы, отразиться в его поэзии отчаянием или озлобленностью. Но отозвались они, пожалуй, только особой нотой печали, пронизывающей его лирику. В этой печали преодолено, растворено личное несчастье, это скорее печаль жизненной незавершенности вообще, нереализованных сил, печаль, не нарушавшая непоколебимой ясности духа.
Полонский принадлежал к тому типу поэтов, у которых жизненное поведение и личный облик вплотную слиты с поэзией. В письме к Фету он пишет: "По твоим стихам невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни... Увы! по моим стихам можно проследить всю жизнь мою... Мне кажется, что не расцвети около твоего балкона в Воробьевке чудной лилии, мне бы и в голову не пришло написать "Зной и все в томительном покое...".
Работа над стихом для Полонского тесно связана с совершенствованием души: он считает, что душа - материал для лирического поэта, а "достоинства стихов его зависят столько же от внешней отделки, сколько и от крепости материала".
Показательно это требование душевной крепости - при всей мягкости его личного облика. Это не случайное для Полонского высказывание. Та же мысль выражена и в одном из самых поздних писем: "Творчество требует здоровья... Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди... Сильные нервы - это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого - сильного ли, слабого ли - к ним прикосновения".
Это несколько противоречит, может быть, устоявшемуся мнению о "слабости", "растерянности" Полонского, но именно это было очень важной для него жизненной и поэтической проблемой: сохранить вопреки всему - гонениям и насмешкам, личным несчастьям и болезням - неколебимую ясность работающей души. От этого и печаль его не безнадежна, не замкнута в себе, но "светла" и полна чувства незавершимости и открытости жизни.
Работа над собственной душой для Полонского - основа творчества, в конечном счете и самой стихотворной формы: "Что такое - отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство".
Нерасторжимая слитность поэта и человека - не безусловно положительное свойство: свобода поэтического полета - "соколиного ширянья" - порою затруднена и отягчена у Полонского "человечностью" забот его поэзии. Это могло привести к тому, от чего сам о" предостерегал: к подмене поэтической простоты (а она для него была непременным требованием) - прозаичностью. "Простота" и "прозаичность" - очень существенное разграничение, и Полонский неоднократно подчеркивал, что для их различения "нужно особенное поэтическое чутье". Там, где это чутье ему не изменяло, стихи его и достигают наивысшего размаха и свободы. Именно на этом пути Полонский и приходит к самому замечательному своему достижению, и здесь он - первый среди своих современников: поразительно его умение "превращать в перл создания всякую жизненную встречу" (Фет).
Когда говорят о поэзии Полонского, как бы сами собой напрашиваются определения "загадочная", "таинственная" - и это при всей его безусловной простоте. "Он во всем видит какой-то особенный, таинственный смысл, - писал Добролюбов в одной из своих рецензий, - все возбуждает в нем вопрос, все представляет ему загадку". Тургенев отмечал у Полонского образы, "навеянные ему то ежедневною, почти будничною жизнью, то своеобразною, часто до странности смелой фантазией".
Но самое характерное для Полонского - именно сочетание двух втих как будто несовместимых сторон поэтического дара: будничную "жизненную встречу", почти подчеркнуто бытовую, на грани прозаичности он умеет высветить, продлить в какую-то бесконечную даль, где открывается в самой ее незавершенности, недосказанности глубокий, таинственный смысл. Тоньше всех подметил это Достоевский и выразил устами своей героини из "Униженных и оскорбленных" (речь идет о стихотворении "Колокольчик", по свидетельству современников, любимом стихотворении самого поэта): "Как это хорошо! Какие это мучительные стихи... и какая фантастическая, раздающаяся Картина. Канва одна и только намечен узор, - вышивай что хочешь... Этот самовар, этот ситцевый занавес, - так это все родное... Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке".
Замечательно здесь рядом стоящее: "фантастическая картина" - и "этот самовар, этот ситцевый занавес". Схвачено главное в лирическом даре Полонского: жизнь как она есть, самая реальная и обыденная, и в ней, - а не над ней, - открывающаяся далекая перспектива, это тайна самой жизни, неразгаданная и даже как бы без попытки разгадать - зримый образ тайны. Про Полонского не скажешь, конечно, как Фет сказал про Тютчева: "Здесь духа мощного господство". Он не взрывает так глубоко и сильно существенные пласты бытия, не решает мировых вселенских противоречий, но ставит перед нами обыденную жизнь так, что она предстает полной красоты и тайны и еще не раскрытых, неясных возможностей.