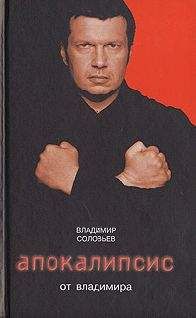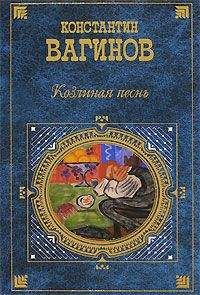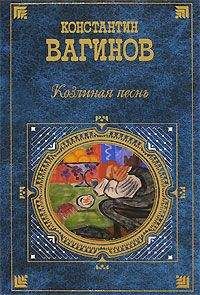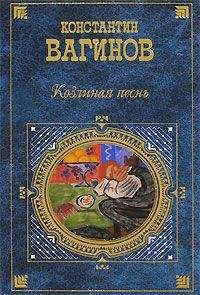Лев Шестов - Умозрение и апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева)
А как часто он говорил о других, менее значительных представителях русской литературы — о Фете, Полонском, Майкове, Алексее Толстом — и говорил с любовью, нежностью и с тонким пониманием знатока. О них у него было что сказать, с ними он охотно общался, а Достоевский ему был не нужен, Достоевский — мешал ему, стоял на дороге. И вообще, все, что было наиболее замечательного и своеобразного в русской литературе, отталкивало, точно задевало Соловьева. Он и Гоголя обошел — словно бы его никогда и не было в России. Не обошел он только Пушкина и Лермонтова. Ему, по-видимому, казалось, что обойти тут недостаточно, что нужно сделать что-то большее, чем обойти... О Пушкине он писал несколько раз, да и Лермонтову посвятил очень большую статью. Но вот теперь, когда нужно вкратце рассказать, что он писал о них, я не знаю, как это сделать. Если рассказать правду, выйдет, что я оскорблю память покойного, которого, хотя его взглядов я не разделял, я всегда глубоко чтил и любил. Но нужно говорить — ничего не поделаешь. Ибо по статьям Соловьева о Пушкине и Лермонтове полнее всего раскрывается, какие задачи принуждена ставить себе “религиозная философия” и кто тот судья, приговорами которого определяются человеческие судьбы.
В этих статьях Соловьев старается говорить не от своего имени, от имени живого и чувствующего человека: философу это ведь строжайшим образом возбраняется. Он хочет только быть передаточной инстанцией, рупором, через который всегда себе равная и неизменная истина доходит до людей и мира. Так учили философствовать древние, так учил Спиноза в новое время, а вслед за Спинозой великие представители немецкого идеализма. Есть вечная Истина, которой дано судить и живых и мертвых и над которой нет и быть не может никакого суда. Как же эта истина судила Пушкина и Лермонтова?
Пушкин, как известно, погиб молодым от пули Дантеса, Лермонтов погиб такою же смертью. Соловьев ставит вопрос: почему безвременно погиб великий поэт? В том, что такой вопрос уместен, Соловьев не сомневается. Не сомневается он тоже, что вопрос этот должен быть обращен к истине, и что ответ истины, каков бы он ни был, мы обязаны принять заранее с той готовностью, с какой неодушевленные предметы покоряются оказываемым на них внешним воздействиям. И, когда истина ему возвещает: Пушкин погиб потому, что его нравственные качества не соответствовали посланному ему Богом поэтическому дарованию, ему и на ум не приходит возражать, протестовать, возмущаться. Ему представляется, что это как раз то, что нужно ему, что нужно всем людям. Вся статья имеет своей задачей убедить в этом читателя. Кончается она так: “вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели — к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному благу; а во-вторых, мы должны ее признать разумною, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, т. е. наилучшим способом... А если так, то я думаю, что темное слово “судьба” нам лучше заменить ясным и определенным выражением — “Провидение Божие”.
Человеку удалось на место темного слова “судьба” поставить светлое слово “Провидение Божие”. Это ли не торжество религиозной философии? И не стоит ли ради такого огромного достижения отдать и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, и все, что нам принесла великая русская литература?
Оставим пока этот вопрос в стороне. Пока для нас с несомненностью выяснилось лишь одно. Судьба не выносит Пушкиных и Лермонтовых, но заботливо оберегает их убийц, Дантеса и Мартынова (оба они дожили до глубокой старости), и такую судьбу Соловьев называет и доброй, и разумной. Ему мало того, что он называет такую судьбу доброй и разумной. Это было бы только философией. Нужно ее еще повысить в сане — нужно ее назвать Провидением Божиим — и тогда просто философия станет философией религиозной. Кто облек Соловьева властью переименовывать судьбу, которую он считает доброй и разумной, в Божье Провидение! Об этом он ничего не говорит — да и зачем? Своими смертными глазами сподобились увидеть Провидение Божие — чего можно еще желать? Было бы, однако, неправильно думать, что Соловьев своим умом научился проникать в тайны Провидения и видеть невидимое. В философии уже до него умели это делать. Его “Судьба Пушкина” составлена по образцу одной из глав гегелевской истории философии, которая носит и соответствующее заглавие: “Судьба Сократа”. Но Гегель куда тоньше и с гораздо большим мастерством выполнил свою задачу. Он не обвиняет Сократа, он даже говорит о трагедии Сократа, хотя если бы хотел, то мог бы легко подыскать достаточно материала для обвинения. Сказать, к примеру, что Сократ был слишком заносчивым и самоуверенным человеком, вел себя вызывающе на суде или что-нибудь в таком роде. Оно ведь так и было на самом деле. Но Гегель догадался, что так говорить не следует и что по существу даже не так важно, виноват ли или не виноват Сократ, так как философии до Сократа, собственно, и дела нет. Философия истории, разыскивающая разум и смысл истории, должна лишь выявить идеальную механику процесса развития. Сократ жил как раз в тот момент, когда наступила пора одному общественному порядку перейти в другой. И прежний порядок имел свой смысл, и новый порядок имел свой смысл, и то, что один порядок должен был сменить другой, тоже имело свой смысл. Старое держалось, новое наступало. Естественно, что при столкновении двух порядков не могло обойтись без жертв: лес рубят, щепки летят. Одной из таких жертв был Сократ, олицетворявший собой новый порядок. Он не мог не погибнуть, но большой беды тут нет, ибо смысл бытия не в отдельных лицах и их удачах или неудачах, а в общем процессе развития. Для общего же процесса развития смерть Сократа не могла явиться помехой. А ведь в этом все дело, чтоб процесс развития шел беспрепятственно.
Мы видим, что Гегель успешнее, чем Соловьев, справился со своим заданием. И он постиг тайну судьбы, которую, если бы захотел, вправе был бы назвать “доброю” и “разумною” и даже собственной властью переименовать в Провидение Божие (все это он сделал, — только в других сочинениях). Он избавился от Сократа, не предавая его, сохранив за ним права на почет и уважение. От смерти он его не мог спасти, не мог тоже убедить добрую и разумную судьбу сделать однажды бывшее небывшим. За невозможным философия, как известно, не гонится и гнаться не обязана — за то он, по крайней мере, выторговал у судьбы право хвалить Сократа. Казалось бы, и Соловьеву, если уже он решился подражать Гегелю, не грех было бы похлопотать о Пушкине у доброй и разумной судьбы. Как и Гегель, он тоже, очевидно, был убежден, что вырвать Пушкина из рук смерти нет никакой возможности, что сама судьба, даже Бог, если бы и захотели, не в силах отменить свершившегося, так что раз Пушкина подстрелили, его дело кончено. Но, спрашивается, что помешало ему, по примеру Гегеля, воздать хотя бы посмертные почести великому русскому поэту? И тоже доказывать, что раз Пушкина убили, то значит это так и нужно было (по-немецки: was wirklich ist, ist vernunftig[4] — основное положение философии, не только гегелевской, но всякой, которая ищет только возможного), что, стало быть, судьба его была и разумной и доброй, что само Провидение, сам Бог так распорядился, чтобы Пушкина убили — но не за то, что Пушкин был плохим, а потому, что это необходимо было для торжества высшего порядка и т. д.
Конечно, Соловьев мог это сделать, но, очевидно, не захотел. Ему мало было найти простое “почему”, он хотел осудить и наказать Пушкина. И в самом деле, вслушайтесь в смысл его рассуждений: Пушкин был великим поэтом, но был вспыльчивым, несдержанным, слишком страстным, т. е., по мнению Соловьева, недостаточно нравственным человеком. А раз так — то, стало быть, он повинен смерти. Если бы было наоборот, если бы он был посредственным поэтом, но очень нравственным человеком, то за него можно было бы вступиться, а теперь — нельзя. Так думает Соловьев, такие мысли он приписывает и судьбе, доброй и разумной, даже Провидению. Соловьев волен, конечно, думать, что ему угодно. Но почему, по какому праву он свои убеждения приписывает и Высшему Существу? Откуда он знает, что на последнем суде поэтический гений ценится меньше, чем средние и даже высокие добродетели? Конечно, знать этого Соловьев не мог. Если бы он хотел быть правдивым, он должен был бы сказать иначе: я лично так ценю добродетели, что никакие гении мне их не заменят, и потому судьба Пушкина меня не печалит, а скорей радует: другим гениям неповадно будет. Но такими скромными утверждениями философы не довольствуются. И Соловьеву этого мало: он требовал высшей санкции, — разума, добра, самого Бога. И, чтоб добиться желаемого, свой собственный разум, свое понятие о добре, нисколько не колеблясь, ставит на место Бога. И это называет религиозной философией.