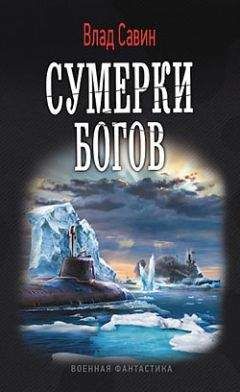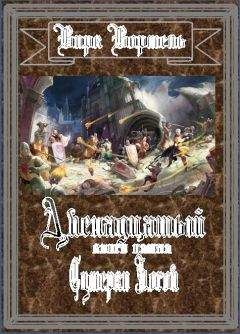Валентин Фалин - Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски
Своим хождениям по мукам в связи с так называемым катынским делом я посвятил несколько абзацев в «Политических воспоминаниях»[15]. Настойчивость в правдоискательстве явилась непосредственным толчком к грозе над моей головой, хотя претензии Ю. Андропова не сводились к Катыни. В январе 1983 г. из аппарата ЦК КПСС я переместился в редакционный корпус «Известий», где провел в качестве политического обозревателя не худшие три года и три месяца своей долгой трудовой деятельности.
После конфликта с Ю. Андроповым я дал себе зарок — Катынью и советско-польским чуждососедством в целом не заниматься. Ни по собственной инициативе, ни по повелению начальства, ни по завету чтимого мною Ф. Тютчева[16]. Сыщутся желающие прикоснуться к паленому, не требуя гарантий против ожогов, Бог им в помощь.
Если не считать сотрудничества с польским писателем и другом нашей страны Я. Пшимановским, который взял на себя заботы, расходы и кропотливый труд идентификации могил советских военнослужащих, павших в боях с нацистами на территории Польши, я от зарока не отступался до 1989 года. Конечно, напрямую будучи спрошенным, от изложения своей позиции не уклонялся. При составлении перечней тем, временем не закрытых и развитием не обогнанных, Катынь не опускал. Но не больше того.
В марте 1989 года чашу моего терпения и воздержания переполнила инертность советского МИД и других ведомств. Варшава намечала ряд односторонних шагов в связи с Катынью, а они и пальцем не шевелили. Понять поляков было можно и должно. Они реагировали на бездеятельность комиссии ученых СССР и ПНР, которая за почти два года своего существования не смогла даже приступить к обсуждению данной проблемы, хотя созвана была решением М. Горбачева и В. Ярузельского с мандатом устранить «белые пятна» в советско-польских взаимоотношениях.
Направляю записку в ЦК КПСС с краткой сопроводительной лично М. Горбачеву. Летом 1996 г. архив Президента Российской Федерации предоставил в мое распоряжение копию с оригинала. Сопроводительного письма генсеку не обнаружено. Возможно, оно не сохранилось или в этот архив не поступило.
М. Горбачеву было доложено, что поляки имели в виду перенести на центральное варшавское кладбище символический прах с места захоронения польских офицеров в Катыни. Соответственно должна была быть изменена надпись на памятнике, ранее установленном в Варшаве: ответственность за гибель офицеров возлагалась на советскую сторону. Генеральный ставился в известность и о других шагах, нацеленных на раскрытие обстоятельств катын- ской трагедии, в отсутствие нашей готовности заниматься этой проблемой сообща.
У меня имелись причины беспокоиться, не попытаются ли ортодоксы подать действия поляков как давление на советское руководство и склонить М. Горбачева к протестам. Принимая в расчет такой оборот, я предлагал оказать содействие перенесению символического праха из Катыни в Варшаву. Одновременно высказывалось предостережение: проблема не снимается, в случае нашей безучастности возможно ее дальнейшее обострение[17].
Генеральный избрал наезженный маршрут. Не высказывая собственной точки зрения, он поручил Э. Шеварднадзе, В. Крючкову и мне внести совместные предложения. 22 марта 1989 года они были представлены и шли несколько дальше соображений, направлявшихся мною двумя неделями раньше: тройка высказалась за то, чтобы сообщить полякам, как обстояло дело в действительности и кто конкретно виновен в случившемся.
Предлагаю вниманию читателей текст документа, который приводится в приложении 12. Он, помимо прочего, дает представление о технологии подготовки политических решений, практиковавшейся при правлении М. Горбачева.
Проект постановления ЦК КПСС к записке, понятно, прилагался. Его, однако, я из архива не получил. Наверное, эта «деталь» не была сочтена достаточно важной, ибо постановление в нашей редакции не вступило в силу. Выпущенный вместо этого паллиатив создавал видимость движения и доброй воли, хотя ни политически, ни нравственно черты не подводил, а лишь бередил раны.
Минул почти год. Урна с землей из катынского леса была перевезена в Варшаву. На памятнике выбили новую дату гибели польских офицеров, из которой явствовало, что преступление было совершено до нападения Германии на Советский Союз и не нацистами. В польской печати периодически появлялись дополнительные материалы и разоблачения, которые отягощали советско-польские отношения, программировался рост недоверия и неприязни к нам как государству и нации.
В. Ярузельский просил, настаивал, требовал от М. Горбачева снять вето с рассмотрения проблемы по существу и нахождения адекватного выхода из положения. Польский президент обращался за помощью ко мне и, я уверен, к другим советским представителям: «Убедите М. Горбачева, время ничего не лечит; издержки бездействия лишь усугубляются».
На мои доклады о беседах с В. Ярузельским М. Горбачев не откликался. Давались ли им какие-либо поручения КГБ и Министерству обороны, точно не знаю. Судя по доступным мне сведениям, поручений не было.
22 февраля 1990 года М. Горбачев получил от меня личное послание[18], в котором я сообщал, что в фондах «особого архива» и Центрального государственного архива советскими историками выявлены материалы, неопровержимо показывающие, что ответственность за убийство польских офицеров из лагерей НКВД для интернированных в Козельске, Старобельске и Осташкове несут наши карательные органы и лично Берия и Меркулов. Из данного факта предлагалось без заминок делать выводы.
Написанию записки предшествовали объяснения с начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР Вагановым, который, прослышав краем уха, что историк Ю. Зоря натолкнулся на катынский пласт, тут же распорядился перевести данные материалы на специальный режим хранения. Мне не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к тогда еще магическому статусу ЦК КПСС и затребовать архивные папки, согласно номерам, сообщенным Ю. Зорей, в Международный отдел.
Историку было выделено помещение, предоставлены технические средства, чтобы он мог без отвлечений синтезировать разбросанные по распоряжениям, донесениям и прочим документам сведения о том, как развертывалась трагедия. Самым болезненным и ключевым представлялся мне вопрос: совпадают ли и в какой степени списки на отправку заключенных из Козельского лагеря со списками опознания во время эксгумации весной 1943 года останков из катынских захоронений? Совпадения, как установил Ю. Зоря, просто потрясали.
23 февраля 1990 года М. Горбачев начертал на моем послании резолюцию: «тт. Яковлеву, Шеварднадзе, Крючкову, Болдину. Прошу доложить свои соображения». Меня к подготовке постановления не звали. Из этого напрашивался вывод: генеральный вынужден отдать дань неизбежности, но моим незваным вмешательством недоволен.
Вместе с тем на Международный отдел была возложена вся организационная работа к приему в Москве президента Польши и по отбору для передачи польской стороне копий с документов из фондов управлений по делам военнопленных и интернированных, а также конвойных войск НКВД. Мое предложение предоставить В. Ярузельскому архивные досье, а не выдержки из них, с тем чтобы не навлекать подозрений, будто что-то утаивается, не встретило одобрения М. Горбачева. Нет, только отдельные документы, подкрепляющие содержательную часть сообщения, которые он, советский президент, вручит президенту Польши.
В 1982 году КГБ располагал особо важными материалами по Катыни, ставившими, по-видимому, необходимые точки над «и». Я решил перепроверить, не дополнился ли гриф на досье «Вскрытию не подлежит» еще более грозным «Перед прочтением сжечь». Бумаги, как и люди, которых они касаются, тоже имеют сложные судьбы.
Случай подвернулся примерно через месяц. В перерыве в работе пленума ЦК КПСС я рассказал В. Крючкову о мытарствах, связанных с построением такого ряда индиций, против которого М. Горбачеву не оставалось ничего возразить. В Комитете госбезопасности между тем хранилось в свое время досье, доступ к которому был накрепко закрыт.