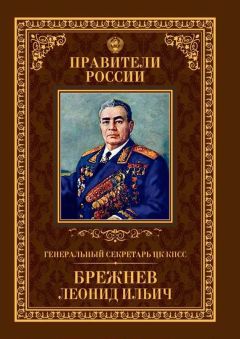Томас Элиот - Назначение поэзии
Третья, или зрелая, стадия наслаждения поэзией наступает, когда мы перестаем отождествлять себя с поэтом, которого в данный момент читаем, когда пробуждаются наши критические способности, когда мы знаем, чего можем ожидать от поэта — что он может дать и чего не может. Поэтическое произведение существует само по себе, независимо от нас: оно было до нас и останется после нас. Только на этой стадии читатель готов к тому, чтобы различать разные степени достоинства поэзии; до этого от него можно ожидать, лишь умения отличать истинное от поддельного — это различие всегда должно устанавливаться в первую очередь. Поэты, которым мы отдаем предпочтение в юности, не располагаются для нас в некой объективной последовательности сообразно их достоинствам, мы располагаем их сообразно случайностям личного характера, установившим нашу с ними связь; так и должно быть. Я сомневаюсь в том, что школьникам и даже студентам можно объяснить степени различия поэтических величин, и сомневаюсь в разумности такой попытки: их жизненный опыт еще не настолько велик, чтобы эти вопросы имели для них значение. Постижение того, почему Шекспир, или Данте, или Софокл, занимают то место, которое занимают, наступает очень медленно, на протяжении всей жизни. А сознательная попытка одолеть такую поэзию, к которой не ощущаешь природной склонности, и часть которой навсегда останется чужой, должна стать делом поистине зрелого ума; результат сполна окупает затраченные усилия, но это противопоказано людям молодым, так как им это грозит утратой восприимчивости к поэзии и подменой истинного развития вкуса его мнимым приобретением.
Само собой разумеется, что "развитие вкуса" — абстракция. Поставить перед собою цель научиться получать наслаждение (в подобающем порядке, объективно установленном в соответствии с ее достоинствами) от всей хорошей поэзии — значит гнаться за призраком, и такую погоню следует предоставить тем, чья мечта — быть "культурным" или "утонченным", для кого искусство — предмет роскоши, а понимание его — достижение. Развитие истинного вкуса, основанное на истинном чувстве, неотделимо от развития личности и характера[20]. Истинный вкус — это всегда несовершенный вкус, но ведь все мы, по сути дела, несовершенные люди; и человек, чей вкус в поэзии не несет на себе отпечатка его личности так, чтобы существовало различие в том, что любит он и что любим мы, так же как сходство и различие в том, как мы любим одни и те же вещи, с таким человеком, скорее всего, неинтересно будет говорить о поэзии. Можно даже сказать, что иметь лучший поэтический "вкус", нежели тот, что соответствует вашему уровню развития, значит не иметь "вкуса" ни к чему другому. Ваш вкус в поэзии неотделим от ваших интересов и страстей, он воздействует на них и испытывает их воздействие, он должен иметь пределы так же, как имеет пределы личность.
В сущности, сказанное здесь представляет собою большой и трудный вопрос: следует ли вообще обучать студентов пониманию английской литературы и с какими ограничениями преподавание английской литературы правильно будет включать в университетские программы, если включать вообще?
В защиту графини Пэмброк
Литературная критика Елизаветинского периода невелика по объему; к обзору ее, сделанному Джорджем Сентсбери, можно добавить немного в рамках этого жанра, а от его критической оценки мало что можно отнять. Меня здесь интересует общее мнение, которое может сложиться у студентов о елизаветинской критике и ее отношении к поэзии века в связи с двумя "безнадежными случаями", взятыми под ее защиту. Порицание популярной драмы и попытка ввести более строгую классическую форму, представленные в эссе сэра Филипа Сидни, а также порицание рифмованного стиха и попытка ввести некую адаптацию классических форм, представленные в эссе Кэмпиона, могут быть — и бывали — восприняты как убедительные примеры того, насколько несостоятельна исправляющая критика и насколько нерассуждающее вдохновение выше точного расчета. Если я могу доказать, что столь отчетливое противопоставление невозможно, и что в елизаветинский век отношения между умом критическим и умом творческим не сводилось к простому антагонизму, мне легче будет показать тесную связь критического и творческого ума в более поздний период.
Все читали "Замечания об искусстве английской поэзии" Кэмпиона и "Защиту рифмы" Даниэля. Кэмпион, который, после Шекспира, был самым искусным мастером рифмованного лирического стиха своего времени, несомненно, оказался в уязвимой позиции, ополчаясь на рифму, на что Даниэль не преминул указать в своем ответе. Большинству читателей трактат Кэмпиона известен лишь тем, что в него вошли два прекрасных стихотворения — "Приди, румяная Лаура" и "Войны безумье породило…" — а также ряд других поэтических упражнений, которые, в силу своих малых достоинств, оказываются аргументом не в его пользу. В наши дни экспериментирование полуклассическими размерами вызывает меньше насмешек, чем во времена, предшествовавшие Роберту Бриджесу. Я не верю, что хорошие английские стихи могут быть написаны в манере, которую отстаивает Кэмпион, так как дело решает природный характер языка, а не авторитет античности. Лучшие знатоки, чем я, подозревали, что на латинское стихосложение слишком сильно повлияли греческие образцы. Я даже не считаю удачной метрику "Евангелия красоты" и всегда предпочитал ранние и более традиционные стихи доктора Бриджеса его позднейшим экспериментам. С другой стороны, "Морской скиталец" Эзры Паунда — великолепный перифраз, использующий богатые возможности древнего языка, благотворное влияние которого я различаю и в творчестве некоторых наиболее интересных молодых поэтов современности. Некоторые старые формы английского стихосложения сейчас успешно возрождаются. Но достойно внимания не то, что Кэмпион был во всем неправ, ибо неправ он не был, и не то, что Даниэль сразил его своей отповедью — не следует забывать, что в прочих вопросах Даниэль был приверженцем классической школы. Вывод из спора между Кэмпионом и Даниэлем заключается как в том, что латинские стихотворные размеры не могут копироваться английским языком, так и в том, что рифма не является ни насущной необходимостью, ни излишеством. Более того, ни одна просодическая система, когда-либо изобретенная, никого не может научить писать хорошие английские стихи. Важна, как часто повторял м-р Паунд, музыкальная фраза[21]. Великим достижением елизаветинской поэзии является развитие белого стиха; истинные наследники Спенсера — это драматические поэты и впоследствии Мильтон. Так же как Поуп, использовавший стихотворную форму номинально совпадающую с драйденовским двустишием, мало походил на Драйдена, так же как и современный поэт, сложившийся под серьезным влиянием Поупа, едва ли вообще пожелает пользоваться этим двустишием, так и поэты, испытавшие значительное влияние Спенсера, отнюдь не те, кто пытался использовать спенсерову строфу, подражанию недоступную. Вторым величайшим достижением века был расцвет жанра лирического стихотворения, и лирические стихотворения Шекспира и Кэмпиона своей красотой были обязаны, прежде всего, не рифме и не совершенству "стихотворной формы", а тому, что были написаны на музыку и предназначались для пения. Познания Шекспира в области музыки вряд ли могли сравниться с познаниями Кэмпиона, в тот век поэту невозможно было не иметь хоть некоторого представления о музыке. Мне трудно представить, что такая песня, как "Смерть, уйди", могла быть написана иначе чем в содружестве с музыкантом[22]. Но возвращаясь к Кэмпиону и Даниэлю, я считаю этот спор важным не потому, что тот или другой был во всем прав или во всем неправ, но потому, что этот спор — часть противоборства между природными и чужеземными элементами, в результате которого и создавалась наша величайшая поэзия. Кэмпион довел до крайности теорию, которой сам не часто следовал на практике, но то, что люди иногда могли думать подобным образом, само по себе знаменательно.
Эссе Сидни содержащее столь часто цитируемые пассажи, где подвергается осмеянию театр его времени, могло быть написано еще в 1580 году, во всяком случае, до того, как были созданы величайшие пьесы века. Трудно предположить, что писатель, который мимоходом выказал живой интерес не только к "Охоте на Чивиоте", но и к Чосеру, особо выделив его величайшую поэму "Троил", оказался бы невосприимчив к блистательному мастерству Шекспира. Но если вспомнить множество дурных пьес и целый ряд изящных, но несовершенных пьес, до написания и постановки которых Сидни не дожил, нельзя отрицать, что его сетования сохраняют справедливость применительно ко всему периоду. Думая о шекспировском веке, мы склонны представлять его себе в виде плодородного поля, где в изобилии произрастают и плевелы и прекрасные злаки, и первые всегда легко вырвать без риска для последних. Пусть себе растут вместе до жатвы. Я не склонен отрицать существование небывалого числа писателей, наделенных истинным поэтическим и драматическим талантом, но при этом не могу думать без сожаления о том, что лучшие из их пьес могли быть лучше. "Так повелось, — говорит Сидни, — что не имея истинной Комедии, в комических частях трагедии мы встречаем лишь скабрезности, неподобающие для скромного слуха, или преувеличенное изображение тупоумия, способное вызвать хохот, но ничего более". Он совершенно прав. "Оборотень" — это один из примеров резкого несоответствия между великолепием основного сюжета и отвратительной второстепенной сюжетной линией, давшей название пьесе. Тоже искажение присутствует в пьесе Марстона и Хейвуда, писателей, обладавших известным драматическим талантом, а Марстон — и немалым. В "Эдмонтонской ведьме" мы наблюдаем весьма странное явление — это пьеса с элементами и комедии и трагедии, которые несомненно принадлежат перу двух разных авторов, и каждый из них временами поднимается до значительных высот в рамках своего жанра, но эти элементы пьесы не слиты воедино, и постоянная смена настроений, которой требует пьеса, на мой взгляд, очень утомляет. Надо сказать, желание "комической разрядки" со стороны публики я считаю постоянной потребностью человеческой природы, но это не означает, что такой потребности следует потворствовать. Она проистекает из неспособности к сосредоточенности. Фарс и любовные истории, особенно если они сдобрены скабрезностями, это две формы развлечения, на которых человеческий ум может с большей легкостью и удовольствием долее всего удерживать внимание; но мы любим фарс как временный отдых от чувства, каким бы откровенно плотским оно ни было, и чувство как временный отдых от фарса, каким бы грубым он ни был. Та публика, что способна сосредоточить внимание на чистой трагедии или чистой комедии, гораздо более искушена. В афинском театре перемену настроения создавал хор, а некоторые из трагедий, возможно, удерживали внимание зрителей главным образом благодаря сенсационности сюжета. В моем представлении "Бере- ника" Расина это вершина жанра, и это, в своем роде, христианская трагедия, в которой верность Государству подменяет собой верность божественному закону. Драматический поэт, способный удержать внимание читателя или слушателя на протяжении трагедии размеров "Береники", это поэт высокой культуры, — хотя и необязательно при этом величайший: здесь требуются еще и другие качества.