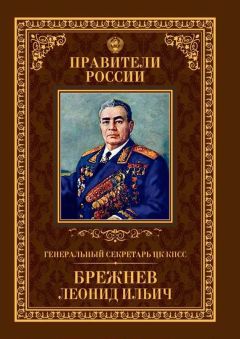Томас Элиот - Назначение поэзии
Отчетливо видно, насколько определяется соответствующим культурно-историческим фоном способ выражения, присущий каждому из этих двух поэтов и критиков. Очевиден также и более утонченный интеллект Кольриджа: его большее внимание к филологической стороне вопроса и его сознательное стремление закрепить определенные слова за определенными понятиями. Но нас здесь интересует, имеем ли мы дело с двумя радикально противоположными теориями Поэтического Воображения, или эти две теории можно примирить, если принять во внимание многочисленные причины различия между ними, коренящиеся в той временной дистанции, которая разделяет поколения Драйдена и Кольриджа.
Может показаться, что большая часть сказанного мною, хотя и имеет некоторое отношение к оценке и пониманию поэзии, почти не связана с ее созданием. Когда критики сами ~ являются поэтами, их можно заподозрить в том, что их критические суждения построены с целью обосновать собственную поэтическую практику. Такая литературная критика, как два приведенных отрывка, едва ли рассчитана на то, чтобы воздействовать на формирование стиля молодых поэтов. Скорее, это, в лучших своих образцах, рассказ поэта об опыте собственной поэтической деятельности, изложенный в форме, свойственной его мышлению. Критический ум, действующий в поэзии, критическое усилие, которое вкладывается в ее создание, всегда может опережать критический ум, воздействующий на поэзию — свою или чужую. Я лишь утверждаю, что между лучшей поэзией и лучшей критикой одного периода существует знаменательная связь. Век критики — это также век критической поэзии. И когда я говорю о современной поэзии как о поэзии в высшей степени критической, я подразумеваю, что современный поэт, если он не просто сочинитель изящных стихов, вынужден задаваться такими вопросами, как "для чего существует поэзия?"; не просто вопросом "что мне сказать?", но, скорее: "как и кому мне сказать это?". Мы должны передать, сообщить (если это действительно со-общение, ибо это слово, быть может, опережая намерения, выдает его за результат) опыт, который не является опытом в обычном смысле, поскольку может существовать, лишь сложившись из многих личных опытов, сочетаемых в таком порядке, который в своем способе выражения может разительно расходиться с системой оценок в практической жизни. Если поэзия — это форма "сообщения", то все же сообщению подлежит само поэтическое произведение, и лишь во вторую очередь, и не всегда, опыт и мысль, вошедшие в него. Поэтическое произведение существует где-то между автором и читателем; оно обладает реальностью, которая не тождественна просто реальности того, что автор пытается "выразить", или реальности авторского опыта написания этого произведения, или опыта читателя, или читательского опыта автора. Следовательно, вопрос о том, что поэтическое произведение "означает", гораздо сложнее, чем кажется поначалу. Если моя поэма "Пепельная Среда" когда-нибудь будет издана вторично, я думаю предварить ее строками из байроновского "Дон Жуана":
"Меня винят в нападках постоянно
На нравы и обычаи страны.
Из каждой строчки этого романа
Такие мысли якобы ясны.
Но я не строил никакого плана,
Да мне и планы вовсе не нужны;
Я думал быть веселым…"[19]
(IV, V)
В этих строках содержится некое разумное критическое предостережение. Но поэтическое произведение — это не просто то, что "запланировал" поэт или воспринял читатель, и "польза" его не сводится всецело к тому, чего намеревался добиться автор или каково реальное воздействие произведения на читателей. Хотя нельзя сказать, что степень и характер наслаждения, доставленного тем или иным произведением искусства с момента его создания, не имеют значения, все же мы никогда не судим о нем по этим признакам. Глубоко взволнованные зрелищем произведения архитектуры или прослушанным музыкальным произведением, мы не задаем себе вопрос: "Какую пользу или выгоду я получил, увидев этот храм или прослушав эту музыку?" В одном отношении вопрос, подразумеваемый словами "польза поэзии", бессмыслен. Но у этого вопроса есть и другой смысл. Независимо от многообразия способов использования поэтом своего искусства, с большим или меньшим успехом, с намерением наставлять или убеждать, поэт, несомненно, желает доставлять людям удовольствие, занять или развлечь, и вполне естественно для него радоваться, если он чувствует, что это развлечение или удовольствие получило как можно большее количество самых разных людей. Когда поэт сознательно ограничивает свою аудиторию, избирая особый стиль письма или предмет изображения, то это особая ситуация, предполагающая объяснение или оправдание, но вероятность ее вызывает у меня сомнение. Одно дело — писать стилем уже популярным, совсем иное — надеяться, что написанное тобой может когда-нибудь стать популярным. В каком-то смысле, поэт стремится к положению комика в мюзик-холле. Будучи не в силах переделать свой товар применительно к господствующему вкусу, если таковой существует, он естественно желает такого состояния общества, при котором его товар сможет обрести популярность, и при котором его талант будет наилучшим образом реализован. Польза или назначение поэзии представляют для него поэтому живейший интерес. Последующие лекции будут посвящены рассмотрению изменившихся на протяжении трех последних столетий концепций назначения поэзии, отраженных в критике, в особенности — в критике, принадлежащей перу самих поэтов.
Примечание О развитии поэтического вкусаМожет быть, вполне уместно будет обобщить некоторые замечания, сделанные мною в другом месте по поводу Развития Вкуса, в связи с вопросами, затронутыми в предыдущей главе. Я надеюсь, эти замечания имеют некоторое отношение к вопросам преподавания литературы в школах и колледжах.
Может быть, я неправомерно приписываю общий характер моему собственному опыту или, с другой стороны, возможно, я высказываю то, что уже стало общеизвестной истиной среди учителей и психологов, когда утверждаю, что большинство детей лет приблизительно до двенадцати-четырнадцати способно получать определенное наслаждение от поэзии; что приблизительно ко времени достижения половой зрелости большинство из этих детей утрачивает к ней всякий интерес, но что незначительное меньшинство оказывается одержимо страстной потребностью в поэзии, совершенно не сравнимой с наслаждением, испытанным ранее. Не знаю, отличаются ли в своих поэтических вкусах девочки от мальчиков, но вкусы мальчиков, я уверен, весьма единообразны. "Гораций", "Похороны сэра Джона Мура", "Баннокбэрн", "Месть" Теннисона, некоторые из пограничных баллад — любить воинственную и кровожадную поэзию не более предосудительно, чем заниматься оловянными солдатиками и игрушечным ружьем. Единственное удовольствие, которое я получил от Шекспира, было удовольствие от похвал за то, что я его читаю; будь я более самостоятельно мыслящим ребенком, я бы вовсе отказался его читать. Признавая, что память часто бывает обманчива, я, как мне кажется, помню, что моя ранняя любовь к стихам, как у всех маленьких мальчиков, прошла, наверное, годам к двенадцати, после чего года на два я утратил всякий интерес к поэзии. Я отчетливо помню тот момент, когда в возрасте четырнадцати лет я случайно подобрал и открыл книгу переводов Фицджеральда из Омара Хайяма и ошеломляющее знакомство с новым миром чувства, в который я вступил, следуя за этими стихами. Это было как внезапное обращение в новую веру: мир предстал обновленным, сверкающим яркими, восхитительными и мучительными красками. Затем я обратился в обычной для подростка последовательности к Байрону, Шелли, Китсу, Росетти, Суинберну.
Этот период, насколько я помню, длился до девятнадцати или двадцати лет. Поскольку это время стремительного усвоения, в конце его трудно вспомнить, каково было начало — настолько разительно может измениться вкус. Подобно раннему детству, это тот период, за пределы которого большинство людей, по-видимому, так и не выходит, так что тот вкус к поэзии, который они сохраняют в последующие годы, это лишь сентиментальная память об удовольствиях юности, которая, вероятно, переплетается со всеми нашими прочими сентиментальными воспоминаниями. Это, несомненно, период, исполненный строгого наслаждения, но мы не должны смешивать яркость поэтического впечатления в ранней юности с напряженным постижением поэзии. В таком возрасте произведение отдельного поэта (или его творчество в целом) вторгается в юношеское сознание и на время всецело завладевает им. Мы не видим это произведение как нечто, существующее вне нас, подобно тому, как в пору юношеской любви мы не столько видим человека, сколько подразумеваем существование чего- то внешнего по отношению к нам, что дало толчок тем новым и восхитительным чувствам, которыми мы поглощены. Нередко результатом этого бывает взрыв бумагомарания, которое можно назвать подражательством, если только ясно представлять себе, в каком именно значении мы это слово употребляем. Это не сознательный выбор поэта, которому подражаешь, а писание в состоянии демонической одержимости тем или иным автором.