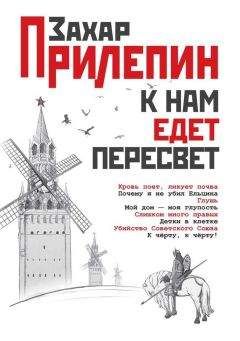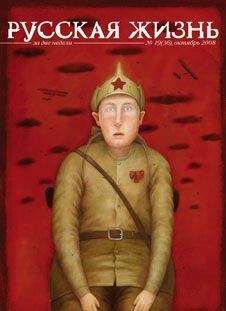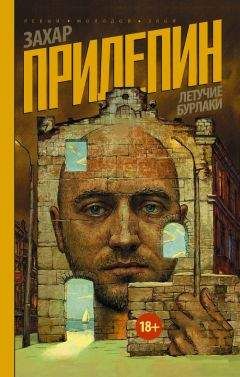Захар Прилепин - TERRA TARTARARA. Это касается лично меня
Это стихотворение Мариенгофа образца 17-го года написано под явным влиянием миниатюр раннего Маяковского. Улицы, упоминаемые в четвертой строке, уже проваливались у Маяковского «как нос сифилитика» в 1914-м, клубились «визжа и ржа» в 1916-м, вообще выбежать на улицы — одна из примет истерики Маяковского:
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Преломляясь, как в наркотическом сне, «Ночь, как слеза.» Мариенгофа отражает классическое «Скрипка и немножко нервно»:
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри» —
я встал…
бросился на деревянную шею.
В обоих стихотворениях сначала рыдают, потом кричат о безумии, кидаются на шеи, стучат в барабаны (вариант — бубны). Схожее ощущение создается и при чтении ранней поэмы Мариенгофа «Магдалина»:
Кричи, Магдалина!
…Молчишь? Молчишь?! Я выскребу слова с языка.
А руки,
Руки белее выжатого из сосцов луны молока.
Ощущение такое, что мелодию эту уже слышал. Вот она:
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Мария, хочешь такого?
…не хочешь?
Не хочешь!
Однако это всего лишь краткий период ученичества, интересными поисками отмеченный более, чем случайным подражательством. Всего за несколько лет Мариенгоф создает собственную поэтическую мастерскую и уже в 20-м пишет пером исключительно своим, голос его оригинален и свеж:
Какой земли, какой страны я чадо?
Какого племени мятежный сын?
Пусть солнце выплеснет
Багряный керосин,
Пусть обмотает радугами плеснь,
Не встанет прошлое над чадом.
Запамятовал плоть, не знаю крови русло,
Где колыбель
И чье носило чрево.
На Русь, лежащую огромной глыбой,
Как листья упадут слова
С чужого дерева.
В тяжелые зрачки, как в кувшины,
Я зачерпнул и каторгу,
И стужу…
Маяковскому в хлесткой борьбе тех лет не помешал бы — под стать ему — многоплановым: от воззвания до высокого лирического звучания — талантом, и жестким юмором, и ростом — великолепный Мариенгоф.
Есенин, на всех углах заявлявший о своей неприязни к Маяковскому, на самом деле очень желал с ним сойтись (пьяный звонил Маяковскому; дурил, встречая в очередях за авансом, толкаясь и бычась, кричал: «Россия — моя! Ты понимаешь — моя!» Маяковский отвечал: «Конечно, ваша. Ешьте ее с маслом».)
Мариенгоф во многом удовлетворил завистливую тягу Есенина к Маяковскому. Сарказм прекрасного горлопана? — у Мариенгофа было его предостаточно; эпатировать нагло и весело? — Мариенгоф это уже умел. Особенности поэтики Мариенгофа тоже, без сомнения, привлекли Есенина и в силу уже упомянутой (порой чрезмерной) близости поэтике Маяковского и в силу беспрестанно возникающих под пером Мариенгофа новых идей. Но, думается, когда жадный до чужих поэтических красот Есенин прочитал у Мариенгофа:
Удаль? — Удаль. — Да еще забубенная,
Да еще соколиная, а не воронья!
Бубенцы, колокольчики, бубенчите ж, червонные!
Эй, вы, дьяволы!.. Кони! Кони!
— когда он это увидел — решил окончательно: на трон русской поэзии взберемся вместе.
Они оба торили дорогу, обоим был нужен мудрый и верный собрат, хочется сказать — сокамерник — «осужденный на каторге чувств вертеть жернова поэм»… А про коней в душу запало. И не только про коней.
В мае 1919-го Мариенгоф пишет поэму «Слепые ноги». Спустя три месяца Есенин — «Кобыльи корабли».
Что зрачков устремленных тазы?!
Слезной ряби не видеть пристань) —
Если надо учить азы
Самых первых звериных истин.
— это голос Мариенгофа. Вот голос Есенина:
Звери, звери приидите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!
По Мариенгофу — не надо слез, время познать звериные истины, по Есенину — и звери плачут от злобы. Поэты — перекликаются. Мариенгоф — далее:
Жилистые улиц шеи
Желтые руки обвили закатов,
А безумные, как глаза Ницше,
Говорили, что надо идти назад.
А те, кто безумней вдвое
(Безумней психиатрической лечебницы),
Приветствовали волчий вой
И воздвигали гробницы.
О «сумашедших ближних» пишет и Есенин. В ужасе от происходящего Мариенгоф вопрошает:
Мне над кем же…
Рассыпать горстями душу?
Есенин тоже не знает:
…кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
(то есть среди гробниц Мариенгофа).
Не только общая тональность стихотворения, но и некоторые столь любимые Есениным «корявые» слова запали ему в душу при чтении Мариенгофа. Например, наверное, впервые в русской поэзии употребленное Мариенгофом слово «пуп»:
Вдавленный пуп крестя,
Нищие ждут лепты,
— возникает в «Кобыльих кораблях»:
Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.
Многие образы Мариенгофа у Есенина прорастают и разветвляются:
Зеленых облаков стоячие пруды
И в них с луны опавший желтый лист,
превращается в строки:
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.
«Белое дерево» Есенина — это луна Мариенгофа, роняющая этот самый лист. Ближе к финалу поэмы Мариенгоф говорит:
Я знаю, увять и мне
Все на той же земной гряде.
На той же земной гряде растет желтолиственная яблоня Есенина в финале «Кобыльих кораблей»:
Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый садовник-осень
Головы моей желтый лист.
Мариенгоф в поэме «Слепые ноги» свеж, оригинален, но многое надуманно, не органично плоти стиха, образы навалены без порядка, лезут друг на друга, задевают углами — это еще не великолепный Мариенгоф; Есенин в «Кобыльих Кораблях» — прекрасен, но питают его идеи Мариенгофа, разработанная им неправильная рифма, умелое обращение с разностопным стихом, умышленно предпринятое тем же Мариенгофом извлечение глагола из предложения:
В раскрытую рану какую
Неверия трепещущие персты?
— пишет Мариенгоф, опуская глагол «вставить» на конце первой строки.
…Русь моя, кто ты? Кто?
Чей черпак в снегов твоих накипь?
— пишет Есенин, тоже опуская парный существительному «черпак» глагол.
Влияние Мариенгофа столь велико, что первый учитель Есенина — Николай Клюев — не выдержал и съязвил:
Не с Коловратовых полей
В твоем венке гелиотропы,
— Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином…
«Кофейно-никотинный» оригинал Мариенгоф восхищал бывшего юного друга и ученика Клюева, без сомнений.
Посему жест Мариенгофа, в одном из стихов снявшего перед лошадью шляпу, настолько полюбился Есенину, что он накормил из этой шляпы, переименовав ее в цилиндр, лошадь овсом; посему «кровь — сентябрьская рябина» Мариенгофа проливается у Есенина в «Сорокоусте», «тучелет» из одноименной поэмы превращается в «листолет» в «Пугачеве», и даже в семантике названия поэмы «Исповедь хулигана» чувствуется тень от «Развратничаю с вдохновением» Мариенгофа. В обоих случаях слова высокого стиля (исповедь и вдохновение) контрастируют со словами низкого (хулиган и разврат).
Какое-то время они работали в одних и тех же стилях и жанрах — одновременно пишут критические работы, затем — драмы, «Пугачев» и «Заговор дураков», — обе на историческом материале XVIII века.
Но слава Есенина разрослась во всенародную любовь, а слава Мариенгофа, напротив, пошла на убыль.
Посему править русской поэзией Есенин, конечно же, решил один. Лелеемая в годы дружбы и творческого взаимовлияния книга «Эпоха Есенина и Мариенгофа» так и не вышла. А в 1923 году Есенин напишет: «Я ощущаю себя хозяином русской поэзии». Блок умер, Хлебников умер, Гумилев убит, Маяковский поет о пробках в Моссельпроме, Брюсов уже старый, остальные за пределами России, посему хозяевами быть не могут. Есенину это было нужно — стать хозяином. Закваска еще та, константиновская.