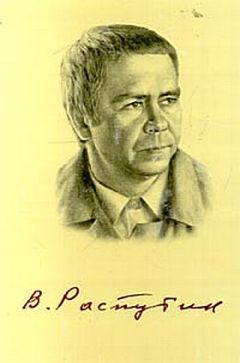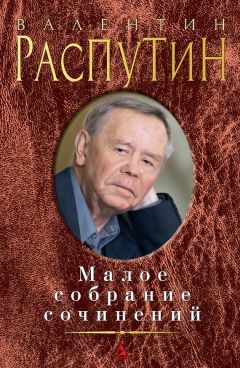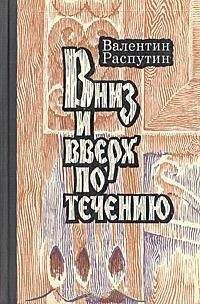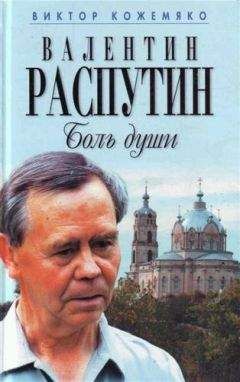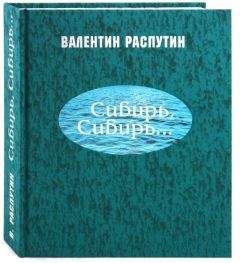Валентин Распутин - Очерк и публицистика
Издавна в России считалось, что русский народ незлопамятен, что он легко прощает преступления своим властителям, а обиды — чужеземцам. Это представление о русском характере так въелось во все политические сочинения и дискуссии, что говорить о мстительности или обидчивости русских кажется чем-то наивным. Дескать, Ваня-простак все стерпит, забудет самые изощренные издевательства над собой. И выходит, что любому наглецу и агрессору сколько угодно дозволено над ним изгаляться. К примеру, без всякого наказания остались заявления Виктора Ерофеева из его опуса «Энциклопедия русской души»: «Русских надо бить палкой. Русских надо расстреливать. Русских надо размазывать по стене. Иначе они перестанут быть русскими. Русские — позорная нация. Национальная идея русских — никчемность. Русских надо пороть. Русские — самые настоящие паразиты. Нормальное состояние русского — пьяное. Русских скорее объединяют дурные качества — лень, зависть, апатия, опустошенность». Попробовали бы вы выпустить тот же самый текст, где вместо слова русский значилось бы еврей или чечен, армянин или татарин, мир тотчас услышал бы грозный протест оскорбленной нации, не миновал бы и кровавых последствий автор подобной дерзости. Да, впрочем, и не рискнул бы никакой Ерофеев даже икнуть в сторону любого из этих народов. А оскорблять русских не только смеет, а делает это с нескрываемым наслаждением.
Почему же русские пока так безответны? История наша показывает, что мы никогда не были скотски покорным народом, что мы терпеливы, но до определенной черты. Только как определить черту, когда русские отказываются сносить обиды? Определить предел терпения, за которым неизбежно вздымается волна народного гнева, можно исходя из смыслов русского языка.
Само слово гнев имеет укорененность в родственных ему словах гнет, угнетение, угнетать. То есть гнев — это наша естественная русская реакция на угнетение, наш ответ на бесконечный гнет. Гнев свойствен русскому человеку, когда его волю подавляют, когда его свободу гнетут, а душу порабощают. Но гнев — это не только свойство отдельной личности. Весь народ может воспылать гневом, если гнет тотальный, бесконечный и беспощадный. И такой народный гнев именуют в истории народным восстанием.
Слово восстание также не случайно оказывается связанным с понятием народного гнева. Ведь гнет разумеет под собой согбенность народа под чужим жестоким ярмом. Сгорбленная, будто сломанная спина — несомненный знак, символ покорности и рабства, потому что покоренный, порабощенный человек, с точки зрения славянина, — это человек подъяремный, ходящий под игом, работающий на чужаков.
Язык наш хранит в себе противоядие от порабощения, от покорности — это исконное, видимое любому русскому родство слов сгибаться и гибнуть. Малейшая согбенность в осанке человека — это уже признак слабости, покорности обстоятельствам, подавления воли, преддверие гибели. А согбенность целого народа, попытка нагнуть шеи русских под чужое иго — это знак нам, всем, кто говорит по-русски, что русским грозит гибель.
Восстание же, а по сути — выпрямление народа, выход его из согбенного, то есть гибельного состояния — это единственно возможный для русских способ избежать гибели. Таковы законы национальной жизни, подсказанные нам родным языком.
Как последовательны были всегда русские в исполнении этих алгоритмов, заложенных нашими предками в языковом наследстве. И как страшен был их гнев в пылу национального восстания. Приведу лишь один факт из истории восстания тамбовских крестьян в 20-х годах прошлого века. Тогда отряд китайцев во главе с командиром-евреем внезапно нагрянул в одно большое село, созвав народ на общий сход. Командир убедил русских мужиков, что новая власть готова предоставить им самоуправление, пусть только для этого выберут лучших, самых уважаемых односельчан. Мужики и выбрали с десяток лучших. Их немедленно отвели к стене сельской церкви и расстреляли. Первыми тогда возгневались бабы, они с голыми руками кинулись на китайцев. А следом восстали мужики, в ход пошли орудия мирного сельскохозяйственного труда — топоры, косы, вилы и пилы. Китайцев порубали на куски, а еврея-комиссара взвалили на козлы и живьем перепилили пополам двуручной пилой. Я цитирую публикацию документов из журнала «Вопросы истории». О чем говорят эти документы? О том, что русский народ — хороший, добрый, терпеливый народ, но у его терпения есть черта. Наше терпение можно назвать даже адским, потому что зачастую муки, переносимые народом, превосходят муки ада. Но за этой чертой русские отказывают обидчику в прощении.
Для того чтобы понять, за какую черту в отношении русских нельзя переступать никому, нужно знать, что исконно означает слово прощение. Сегодня ошибочно принято считать, что прощение по-русски — это забвение обид, нанесенных ближними и врагами твоими.
Так, в русской христианской традиции принято просить Бога оставить, отпустить грехи (здесь отражен древнееврейский обычай отпускать в пустыню козла — козла отпущения, возложив на него все прегрешения еврейского народа за год — национально чуждое нам представление о том, что можно взвалить свою вину на кого-то другого, обвинив его во всем плохом, что мы сотворили сами). А еще чисто по-русски у нас принято молить Господа простить грехи.
Само слово простить восходит к прилагательному простой, то есть прямой, правильный. В русском языке это значение сохранилось в выражении простой путь, что значит — прямой, правильный путь.
В Евангелии сказано: Да будет око твое просто — призыв к тому, чтобы взгляд был прям, без кривизны, правдивый. На Литургии возглашают: Премудрость, прости. Услышим Святаго Евангелия чтение. Это означает: при слушании Премудрости будьте прямы, то есть примите Св. Писание без искажений.
Все эти употребления слова простой были возможны потому, что простить исконно означало выпрямить, исправить. И это подсознательно понимает каждый ребенок, который, провинившись, говорит матери: мама, прости, я больше не буду. Когда мы просим прощения у ближнего, когда взываем — прости, мы тем самым обещаем исправиться и обязаны исполнить обещание, ведь закон русской жизни: «сказано — сделано».
И конечно, русский народ понимал прощение грехов именно как исправление грешника, а прощение обид — как исправление обидчика. В этом, пожалуй, наша национальная особенность в отношении к собственным грехам и к нанесенным нам чужаками обидам. Там, где другие народы, каясь, оставляют свои грехи в стороне от себя или возлагают свои грехи на каких-нибудь козлов отпущения, мы, русские, клятвенно обещаем исправиться. В силу законов родного языка мы имеем также и волевое стремление прощать обиды другим, то есть исправлять их, искореняя зло на земле.
Именно в исконном смысле слова прощать кроется ключ к той самой черте долготерпения русского народа. Мы сначала авансом прощаем обидчика, мы прощаем преступника, при этом подсознательно будучи убежденными, что в результате нашего прощения наш обидчик или преступник должен исправиться, должен восстановить справедливость по отношению к нам, должен загладить обиды и покаяться — делом покаяться в своих преступлениях перед нами.
Но если этого не происходит, если обидчик не желает отступать и наглеет с каждым днем все больше, — русские начинают исправлять его сами. Ведь он же непременно, с нашей языковой точки зрения, требует прощения. Если не хочет исправляться сам, мы его исправим и тогда с легким сердцем простим. Окончательно. Как тамбовские крестьяне.
Сколько таких частных актов русского прощения накопилось уже в наши дни! Кондопога, Харагун, Ставрополь, Сагра… Предупреждаем же каждый раз наших обидчиков в трагические эпохи русской истории — мы, русские, вас простим, но вам же будет лучше, если исправитесь сами.
Миф о русской смиренностиСреди русских добродетелей чуть ли не одной из главных считается самоуничижение, которое в быту еще именуют скромностью, а в религиозном плане — смирением. Особенно русские ценят и в себе, и в других скромность, и означает это слово наше национальное свойство оставаться «на кромке», с краю, в тени, хотя бы по делам и заслугам ты достоин быть в почестях и хвалах.
Несомненно, у нас, русских, не принято кичиться никакими достоинствами, — ни умом, ни здоровьем, ни достатком, — ничем! И потому даже на обычный житейский вопрос — как дела, у нас обычно отвечают — ничего, то есть нормально. А ведь что такое ничего, это всего-навсего усеченная формула «ничего нового, ничего страшного», то есть все по-старому, своим чередом, словно и обсуждать нечего.