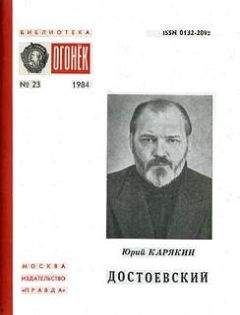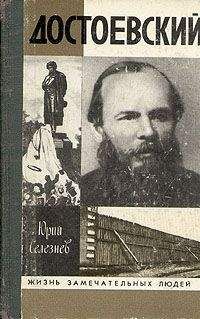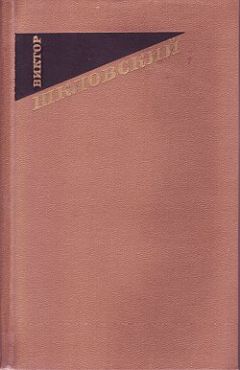Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
Но все-таки по-настоящему не внешнего (идеологического, социально-политического), а внутреннего (духовно-мировоззренческого) разрыва для масс, для миллионов еще не произошло.
А.И. Солженицын: «Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна».
А.И. Солженицын точно обозначил этапы духовного разрыва с коммунизмом: жить не по лжи, не соучаствовать; раскаяние, искупление.
Мы самая предупрежденная страна о бедах, которые несет коммунизм.
Залпом читаю степаняновские сборники.[216] Сколько новых открытий, сколько новых имен. Например, Т. Касаткина «Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского» (кстати, «великих» — не надо бы).[217]
Речь идет об «иконном» финале. Наблюдения ее — глубоки, поразительны, ошеломляют. Но, во-первых, насколько они были осознаны самим Достоевским? Во-вторых, насколько были осознаны непосредственными тогдашними читателями? Тут есть нюансы, которые автор не принимает во внимание. Действительно, главное, чего недостает современному читателю Достоевского и на Руси, и в мире, — так это вживаемости, органической погруженности в тогдашнюю атмосферу, которая была насквозь христианской. И то, что нам, для нас кажется сегодня открытием, для них было, если угодно, — обыденностью: они, тогдашние, жили абсолютно другой жизнью, дышали абсолютно в другой атмосфере, для них совершенно естественной.
Нам, так или иначе испорченным атеизмом, невероятно трудно вжиться в то время, дышать тогдашним воздухом. Это для меня — главное, что следует из ее статьи. Но опять-таки осознание! — и самим Достоевским, и самими тогдашними читателями.
Выходит: если не знать этих сопоставлений, то даже для тогдашних, не говоря уже о сегодняшних, читателей все романы Достоевского были закрыты. Заколдованный сундучок, ключ от которого был потерян и вот теперь наконец найден.
Я сомневаюсь как в осознанности этого «приема» самим Достоевским, так и, тем более, в осознанности самим тогдашним читателем.
Теми и другими это, несомненно, чувствовалось, должно было чувствоваться. Уже одно это — очень много. Но чтобы осознавалось — сомневаюсь…
В этом случае мы рискуем попасть в рационалистическую мышеловку, когда едва ли не каждое слово художника представляется нам не то ребусом, не то какой-то шарадой, кроссвордом, который мы, по определению, должны рационалистически угадать, разрешить, расшифровать.
Но ведь в этом случае мы, вольно или невольно, незаметно для самих себя теряем главное, самое главное, что составляет суть художественного произведения, то есть ощущение непосредственного ожога, непосредственного восприятия.
Маленький контраргумент (я его перепроверю, а сейчас пишу по старому восприятию): в черновиках Достоевского его «пяти великих романов» я что-то не упомню знаков такой «зашифрованности», таких ребусов, шарад, кроссвордов.
…Можно — к сожалению, конечно, — не знать одну из последних строк пушкинского «Моцарта и Сальери» — «И не был убийцею создатель Ватикана!», — можно, к сожалению, не знать, что здесь подразумевается (тогда это было «всем» известно) Микеланджело Буонарроти, но от этого малюсенького незнания целостность непосредственного восприятия всего художественного произведения отнюдь не умалялась.
Познание литературоведом художественного произведения при всей эрудированности автора должно не умерить непосредственную живость впечатления читателя, — усилить его. «Исполнить», «исполнить» прежде всего адекватно, по нотам.
Литературоведение есть воскрешение-исполнение, а неисполнение — убийство.
Сегодня посчастливилось: разглядывал «Афинскую школу» Рафаэля — и вдруг разглядел наконец… Среди трех-четырех десятков персонажей только один — сам Рафаэль! — смотрит зрителю прямо в глаза. Этот взгляд тебя не отпускает, прикован к тебе, что-то говорит.
Знаменитый и незаконченный спор вокруг мысли М.М. Бахтина: в полифонии Достоевского все голоса героев и, главное, автора равнозначны.
Сейчас мне чудится: буквально в каждом произведении Достоевского, самом «объективном», самом «отстраненном», взгляд самого Достоевского на тебя — в упор, как у Рафаэля в «Афинской школе». Только надо этот взгляд найти, рассмотреть. Наверное, ярче всего он — в «Сне смешного человека», а труднее всего виден — в «Бедных людях» или «Двойнике».
Когда Достоевский писал брату: «Во всем привыкли видеть рожу сочинителя, а я своей не показывал…»[218] — то нельзя это понимать слишком буквально. Здесь ведь какая мысль? Очень простая: нельзя смешивать героев с автором. Но автор не может не показывать своего лица. И даже чем больше старается скрыть его, замести свои следы, то ведь еще больше их оставляет. И все дело в том, чтобы их, эти следы, отыскать. Повторюсь: будут, будут решать когда-нибудь такую задачу.
Мой главный аргумент против Бахтина — он, писавший свою работу в конце 20-х годов, просто не имел под рукой черновиков Достоевского, не работал с ними, а потому не увидел, не усмотрел мощную волю Демиурга. Не может быть Творец равен тварям, творениям…
Но есть второй еще аргумент: вывести это неравенство, не прибегая к черновикам, а из самой художественной плоти, из самого художественного духа произведений. Задача несравненно более трудная.
Достоевский — Россия
Неистовая шатовская любовь к России расколота, расколота так же, как его страстное желание верить в Бога. Верить — не верить в Бога; верить — не верить в Россию. Ср. главное противоречие самого Достоевского.
Достоевский. Речь о Пушкине: «Пушкин — „наше все“, стало быть, Пушкин — Россия, стало быть „Россия — будущее всего мира…“
Специфика Пушкина, Мышкина, России, самого Достоевского — «всемирно-историческая отзывчивость». На боль всемирную и радость.
Понимаю, что покушаюсь на святая святых: это — к счастью или к сожалению — не так.
Во-первых, всемирно-историческая отзывчивость… Гений, гении национальные мерили нацию на свой аршин. На самом-то деле это они отзывались, они мечтали… А народ? Да для народа-то губернский город был заграница, не говоря о Москве, а тем паче о Петербурге. Всемирно-историческая отзывчивость для народа! Да ему все одно — что француз, что немец, что англичанин, что американец. Вот и вся отзывчивость.
Во-вторых, «образованщина» приняла откровение гениев о самих себе почему-то на свой счет, к тому же — дармовой. Ежели Достоевский сказал, ежели Блок отчеканил: «в нас все, и сумрачный германский гений…», — то полуобразованщина решила, что это о ней сказано, приняла это на свой счет.
А в-третьих, главное, нынче все обречены на всемирную отзывчивость, потому что все от всех буквально, физически, тем более духовно, — зависят.
А Германия? А Япония? Томас Манн, Г. Бель, Акутагава, К. Оэ? Что — не зависят? А еще раньше — Лонгфелло? А Рабиндранат Тагор?
Достоевский — слишком безоговорочно, как-то по-детски, любил этот мир, эту землю («Сон смешного человека», Раскольников на каторге, Мышкин о казни, Подросток, Зосима, Иван Карамазов…). И за это-то именно невзлюбил его Леонтьев. Логика инквизитора: так как все — там, в вечности, то — здесь и в это время — все ничтожно.
По-видимому, образовалось несколько специфических способов познания, лучше сказать — способов отношения к Достоевскому.
1) Чисто религиозное, очень содержательное и очень убийственное — Достоевский как художник — убивается.
2) Как протест против первого, осознанный или неосознанный. Отношение к Достоевскому как к «чистому художнику»: тут накопана тьма фактов, наблюдений, без которых Достоевский действительно непознаваем. Но — потерян его общий мировоззренческий контекст.
Все остальное — болтается между этими двумя отношениями…
Разумеется, сия градация — некоторое упрощение, но как определение тенденций — верно, к моему огорчению.
У представителей той и другой тенденций бывает — порой — стремление выйти за границы своей тенденции, но порывы эти как-то гаснут.
Никто еще не соединил обе тенденции вместе.
Больше всех правы, более всех точны — Константин Леонтьев, Лесков, Толстой, да и то не с художественной точки зрения, а с чисто мировоззренческой: дескать, это не «чистое» христианство.
Что касается «чисто литературоведческих» работ (особенно советских, если не исключительно), — то для них, то есть для авторов этих работ, повторяю, «сам предмет» был запрещен, а потому…
Эти две тенденции так и не прорвались друг к другу (исключения не в счет) и почти никем замечены не были.