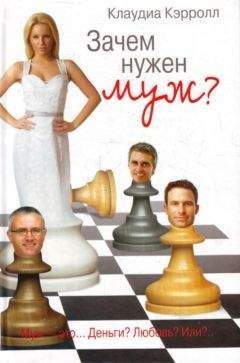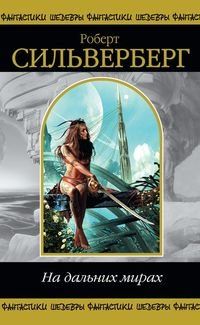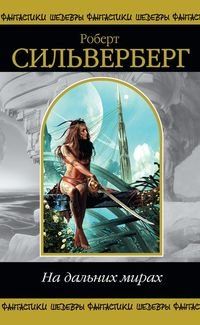Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Есть общий лейтмотив: связь мира. У фронтовиков это: слияние, сцепление, соединение. У послевоенных: уход, расцепление, высвобождение…
На барже надпись: “Не чалиться!” — Как это не чалиться? — возмущен Луконин. Да весь мир взаимопричален! Ужас— это когда один из двоих отрывается от спасательного круга. Ужас — одиночество, непоправимость одиночества, пустота одиночества. Для Луконинаэто абсурд, катастрофа. «Мы встретились с тобой— два одиночества… и ходим рядом, как Орда и Византия…» Две пустые свободы, два оторвавшиеся сердца — ни залечить, ни заменить, ни забыть — ничего нельзя: свобода страшна отключением от микроструктуры, отпадением от целого. Само слово “свобода” окрашено у Луконина преимущественно в ироничные тона. Даже в таком специфическом случае, как вот этот: «Свободный стих имеет смелость не быть рабом своей свободы”. И это — Луконин, никогда с формальными законами силлабо-тоники особо не считавшийся… Однако в основе его раскованного стиха лежит не свобода — необходимость.
И она же лежит в основе его лирических чувств. Крушение любви — гибель. Разрыв — не освобождение, не выход в простор и свободу, а падение в пустоту: «Не любишь ты, и я — никто, ничей, как беглая волна…”
Ничей — сравните это полное боли слово с ликующим криком молодого Вознесенского: «Нас несет Енисей. Как плоты над огромной и черной водой, я — ничей! Я — не твой, я — не твой, я — не твой!..» Вот там — освобождение.
Еще одна сквозная нравственная антитеза: Луконин не любит ничего случайного, неожиданного, прихотливого; он тяжек памятью, он не умеет забывать. «Необходимость»— и впрямь ключевое слово. «Необходимость, как непобедимость поэзии, — спасение мое…» Случайность — химера, случайность — обман, “случайностями все опьянены”. Это все «фантазии», и если нравственный антипод Луконина легко сходится и расходится, то герой его — буквально отрывает от сердца, он очень тяжко прощается, он всю жизнь прощается, он не прощает прощанья: «Прощения тебе не обещаю, но вечное прощание дарю».
Откуда такая жесткость памяти, такая связанность страсти? Не от ощущения ли прочнейшей структуры мира — того самого работающего, с революции начавшегося и к мировой революции неизменно шедшего, целесообразного, всецело подчиненного великой цели мира, в котором когда-то нашло себя поколение сорокового года?
Луконинская душевная структура предполагает прочную связь и возврат. Возврат— еще один лейтмотив его поздней лирики. «Завод мой, зачем я ушел когда-то» — «Все к одному придут из поиска!» Нет, он не кочевник, кочевье ему душу выматывает: как блудный сын, он вечно тянется к родному берегу: «Волга, приду и щекой небритой прижмусь к твоему рукаву. Волга, слышишь, в глаза взгляни ты, скажи мне: так ли живу?»
«Волжская ностальгия» Луконина не знает локальной замкнутости. Это не вызов «городскому безличию» и не антитеза «порче цивилизации». У Луконина любовь к «кусочку земли» не противостоит любви к “планете и «державе»: для него и здесь нет разрыва.
Непросто держаться такой линии, когда поэзия разлетается все дальше на края. Однако фронтовики встали твердо: в 60-е годы они удержали центр поэзии, и именно в эту пору критика закрепила за ними новое, найденное, кажется, Л.Лавлинским, слово: узловое поколение. Луконину и здесь выпало стоять правофланговым… впрочем, фланги-то как раз были растянуты — здесь стоял именно центр, узел, опорный пункт. Они его и удержали — «мальчики державы». “Лобастые мальчики невиданной революции”.
Ощущение принадлежности целому (не «причастности», а именно всецелой принадлежности) и обусловливает кардинальное чувство Луконинской лирики: «Я — шпала на пути твоем». Это не жертвенность, не выбор судьбы, не «акция». Это — естественное состояние человека, не знающего той пустоты и той отрицательной свободы, при которой надо делать выбор. Это счастье цельности. И горькое понимание его дорогой цены.
Луконинская лирика ложится в спектр поэзии своего времени самостоятельной и горькой линией.
Как лирик он остается верен себе до последних мгновений.
В 1972 году хоронят Смелякова, по стиху — самого близкого Луконину человека в русской поэзии.
Стихи вослед:
Не загробной слезою омою —
знаю твой нрав.
Но ушел
и не попрощался —
ничего не сказал мне.
А ведь я живу, как прежде,
с тобою вдвоем,
вдвойне.
Оборвал все тоскою немою —
нехорошо,
Ярослав.
Что вспоминал он, провожая Смелякова в могилу? Тот ли день, когда в середине 50-х, встречая его из заключения, стоял на перроне с полушубком в руках, чтоб тот мог сразу сбросить ватник? А может, праздничный предвоенный поэтический вечер вспоминал — гром аплодисментов и густой бас в ухо: «Иди сюда. Ты — поэт»? Или еще более давнее — как на волжском берегу вместе с Колей Отрадой «ахали над юным Смеляковым»?
За тридцать лет то мгновенье не отдалилось. Наоборот, приблизилось. Заполнило жизнь. Луконинская душа по природе не склонна ничего упускать, отбрасывать, забывать; в ней застревает — навечно. Но из всех «возвратов» самым прочным оказался возврат к той солдатской поре, из всех “ностальгий” — фронтовая. Нужно вжиться в странную, уникальную, трагическую логику этой тоски. Обыденное сознание может понять тоску по утерянному раю, ностальгию по безоблачным дням. Но тоска но смертному испытанию! Не счастье просит вернуть — беды и горести! В огонь хочет… Нужно почувствовать духовную организацию этого неповторимого поколения, нужно понять то принципиальное ощущение жизненной задачи, которое они впитали с детства, чтобы понять такую тоску.
Как-то Луконин обмолвился: «Я должен был погибнуть вместе с ними под Негином, в 1941 году. Я живу сверх меры…»
А жизнь сверх меры —
Празднество и мука.
Тогда толкнула пуля горячо,
я над землею выгнулся упруго,
не слыша ничего.
А что еще?
А то,
что с той минуты,
в сорок первом
живу, живу, случайностью храним.
Веду перерасчет всем старым мерам,
и верам,
и невериям своим.
К этому перерасчету Луконин подходит на рубеже 70-х годов, и вслед за ним в эту полосу один за другим идут поэты «узлового поколения». Календарно им не так уж много: за пятьдесят. Реально же, но по внутренним часам пережитого, они знают другие сроки и, как к последнему бою, готовятся к последнему часу. Наровчатов: “Сходить с огромной сцены пора приходит нам”. Дудин (салютуя Луконину): «Кончается наша дорога…» Винокуров: «Наконец почувствовал: прошла…” Слуцкий, автор «Неоконченных споров”, Самойлов, автор «Вести», Ваншенкин, автор «Дорожного знака», Орлов, автор книги “Костры”, вышедшей уже посмертно, — вот варианты этого последнего раздумья.
Слуцкий с отчаянной решимостью смотрит в бездну. Иллюзий никаких: там пустота, безвидная мгла, черная яма, отсутствие всего, дырка, ночь — абсурд. В яростном самосмирении Слуцкого перед законом, которому подчинено бытие, есть что-то от ветхозаветных пророков. Пригнуть себя; скрутить, подчинить закону все бренное в себе. «Шаг из тени в темь, шаг из шума в тишь, шаг из звени в немь… Что ты там мне ни тычь!» Мысль о делах, что будут продолжены, о памяти, что останется, помогает смириться Слуцкому-рационалисту, но личность поэта не может смириться с ощущением конца и финала — личность отступает с боем, личность бьется на краю, сгорая от трезвой ясности, от горькой ясности сознания.
Как светел, спокоен рядом с ним Сергей Орлов! “Прости, земля, что я тебя покину, не по своей, так по чужой вине, и не увижу никогда рябину ни наяву, ни в непроглядном сне…” Прощается с деревьями, с избами, с друзьями, со всем миром; природная мягкость характера окрашивает это прощанье в тона светлой печали, и именно свет в душе дает Орлову мужество: «не пугаться, не искать спасенья, не питать надежды на броню…»