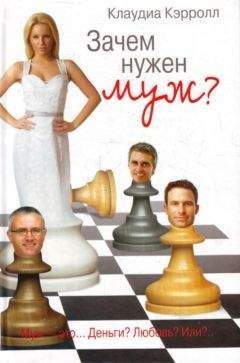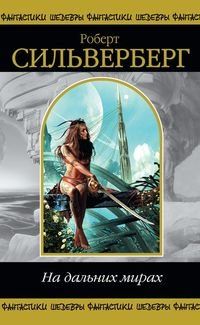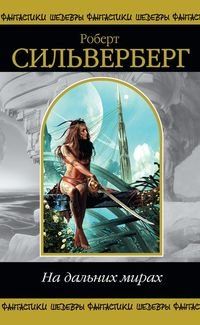Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
В этой точке стиха— резкий поворот эмоционального движения, который требует от читателя совершенно неожиданного усилия: инерция, заложенная первыми строфами, сбита встречным импульсом; ваше читательское чувство оказывается в раздвоении, которое можно грубо передать так: как — как это одновременно «не любить» и «любить»? Мотив «подруги воина» — один из распространеннейших в предвоенной лирике — знает два логичных разрешения: либо это гимн верности, либо — презрение к неверности. Либо — «Катюша» Исаковского, либо — в скором будущем — симоновское «Открытое письмо женщине из Вычуга». Или — или: война не терпит полурешений. Но в самый первый момент, в момент своеобразной «невесомости», когда существо человеческое еще ни привыкло к новой железной логике и еще не вполне отрешилось от старой, предвоенной, легкой «ясности» чувств, — возникает это колебание весов… Есть и у Симонова в халхингольских «Письмах домой» такой лирический мотив: глядя на брошенную врагом фотографию узкоглазой девушки, холодно отметить: «недурна». Симоновский герой гасит в себе готовые возникнуть (и возникающие у нас, читателей) сложные чувства, ему нужна определенность, и очень скоро она получает выражение в самом знаменитом стихотворении Симонова — «Жди меня». Луконину тоже нужна определенность, но ему, кажется, на роду написано — при невероятной интенсивности чувств — всю жизнь разбираться в «неопределимости» женской души. Впервые входит в его лирику странное соединение «любви» и «нелюбви», входит вместе с огромностью самой войны, такой же неохватной, неопределимой, не соизмеримой ни с чем, сдвигающей все старые мерки…
Все это пустяки, Николай;
если б не плакали.
Но живые
никак представить не могут:
как это, когда пулеметы такали,
не встать,
не услышать тревогу?
Вдумайтесь в первую строчку: ведь в ней опять, как в капле, — вся луконинская «нелогичность». «Если б не плакали…» было бы легче? Вон с какой обидой бросает женщине (в стихах того же времени) герой Сельвинского: «Если умру я… ты не заплачешь…» Плачь! А не плачешь— так это моральное дезертирство. Тут логика. Луконинские переживания не вмещаются в эти рамки. Ощущение такое, что он вообще не ищет рамок, не верит, что они есть. Не логику вынашивает, а стойкостъ. Ко всему готовит себя, через любое пройти. Вот душа и собирается в комок…
Я бы всем запретил охать.
Губы сжав— живи!
Плакать нельзя!
Не позволю в своем присутствии плохо
отзываться о жизни,
за которую гибли друзья.
Еще одна точка, в которой луконинская лирика пересекается с лирикой лирикой Симонова. Помните «Далеко на востоке»? Финал: «Встать! Слышите, встать, когда говорят об этом…»? — не очевидно ли здесь то луконинское влияние, которое много лет спустя признал Симонов? Именно из этой общей точки расходятся пересекшиеся пути, и хорошо видно, сколь далека от ясной логики Симонова разрывающаяся от внутренних потрясений, неровная ткань луконинского стиха.
И хотя я сам видел,
как вьюжный ветер, воя.
волосы рыжие
на кулаки наматывал,
невозможно отвыкнуть
от товарища
и провожатого.
как нельзя отказаться
от движения
вместе с землею.
Луконинский стих словно вынут из традиционных для поэзии координат, он именно начат «с нуля», о нем думается толстовскими словами: кок-то голо. Этот стих бьется под реальным ледяным ветром, шатаясъ, упираясь, выживая, вырабатывает совершенно новую силу сопротивления. Позднее скажут: Луконин первым в поколении почувствовал, что финская кампания — только прелюдия; грядет большая война, и она будет ни на что известное ранее не похожа:
Мы суровеем,
друзьям улыбаемся сжатыми ртами.
Мы не пишем записок девочкам
не поджидаем ответа…
А если бы в марте,
тогда,
мы поменялись местами,
он
сейчас
обо мне написал бы
вот это.
Последний штрих. Сверстники, что они «поколение», знали — умом. Писали коллективные стихотворные послания: съезду комсомола, трудящейся молодежи Западной Украины и Западной Белоруссии. Луконин в таких посланиях участвовал; одно из них, например, обсуждалось и принималось на комсомольском собрании Литинститута. Чувство «поколения» выплескивало себя в литературный быт, точнее, в литературную оргработу. Это чувство надо было еще пережить, как личную боль, оно должно было стать ощущением скрепленного реальной кровью братства, оно должно было войти в стих, как входит изначальная, физически ощутимая, непреложная правда судьбы… И это Луконин тоже почувствовал — первым. Вот теперь, прощаясь с Отрадой.
Вскоре «Литературная газета» поминает Луконина в критической статье. Это обзор поэтических публикаций последних месяцев. Вопрос ставится жестко: какие стихи нам НУЖНЫ и какие НЕ НУЖНЫ? С оговорками, но все же положительно, оцениваются Кульчицкий, Слуцкий, Наровчатов и Кауфман (еще не ставший Самойловым). Некоторым поэтам достается. Например, Луговскому. О Лаврове сказано: «редкая для нашего времени смысловая ограниченность и омертвелость». Вывод статьи: «Иных, совсем иных образов требуют стихи о современной войне». В списке лучших Луконин стоит вторым. Между Эренбургом и Шубиным.
Статья появляется 8 июня 1941 года.
Через две недели студенты Литинститута принимают резолюцию об общем уходе на фронт.
Ждут предписания (военизированный лагерь за городом, палатки). Ночью Наровчатов, комсорг, будит тех, кто прошел финскую кампанию, — с ними он может говорить прямо. Показывает пакет. Луконин спрашивает: «Начинается?». Ответ: «Началось».
Обмундированные с иголочки, уезжают с Киевского вокзала. Вскакивают в последний момент в тронувшийся вагон. И тут ветром срывает с Луконина новенькую фуражку. Все замирают: дурная примета.
В последнее мгновение ловит ее на лету.
Теперь поэты едут уже не в батальон, как в 1939-м. Они направлены в армейскую газету…
Судьба, правда, распорядилась иначе. Не в газете развернулись события. А было поле на Брянщине, крик: «Окружены!», прыжок из горящего грузовика, задыхающийся бег к лесу, удар пули, кровь, хлюпающая в сапоге. Там, в грузовике, горит вещмешок с рукописью поэмы, но не до стихов. Впереди — шестьсот верст пешком к своим. Наровчатов рядом, шутки невеселые: «Жирно им будет ухлопать сразу двух поэтов!»
…Вышли к своим. И тут — ледяной душ: «Почему остались живыми?.. Где были целый месяц?..»
Редактор сказал: «Мне не нужны окруженцы».
В редакцию-то он их взял — под давлением сотрудников. Но работа оказалась не похожа на поэтическую. «Забудьте, что вы — поэт, вы присланы литсотрудником», — учил редактор. Однажды ему сказали, что Луконин написал стихотворение «для себя». Выговор: «Вы не имеете права красть у редакции время!» Стихи следовало писать только по заданию. «Завтра напишете о минометчике Н.». Или так: «Через час нужны стихи об оборонительных укреплениях»…