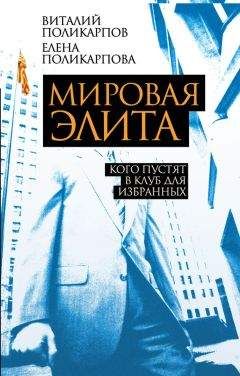Уистан Оден - Чтение. Письмо. Эссе о литературе
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЩИТЫ
Господа присяжные заседатели! Я убежден, что вы, равно как и я, с удовольствием выслушали красноречивое выступление моего досточтимого собрата. Я говорю именно об удовольствии, так как любое начинание, будь то инженерное изобретение, стихотворение или вдохновенная речь оратора, непременно должно доставлять удовольствие.
Нас развлекли анализом характера покойного, что, с одной стороны, оправданно, но в то же время пагубно. Доказывает ли данный анализ что-либо в отношении его поэзии или нет — это другой вопрос. С вашего позволения я процитирую моего ученого друга: «Мы собрались здесь, чтобы судить не человека, но его труд». Мы узнали, что покойный был тщеславен, что он был снобом и трусом, что его вкусы в современной поэзии были весьма сомнительного свойства, что он ничего не смыслил в физике и химии. Но можно ли так судить художника? Не напоминает ли это юношескую уверенность в том, что великий художник должен быть кристально чистым человеком? Отбросим в сторону словесные изыски, и доводы обвинителя сведутся к следующему утверждению: «Великий поэт обязан дать правильные ответы на вопросы, которые волнуют его поколение. Покойный давал неправильные ответы. Следовательно, покойный не был великим поэтом». В таком случае поэзия должна походить на телеигру с социальным уклоном и, чтобы выиграть, поэт должен ответить на семьдесят пять процентов вопросов. При всем моем уважении к государственному обвинителю я должен заметить, что это вздор. Есть большой соблазн осуждать современных поэтов, так как мы и впрямь ждем ответов ото всех: от политиков, ученых, поэтов, священников — и виним их, когда они не могут внятно ответить. Но можно ли подходить к поэзии прошлых веков с такими мерками? В эпоху роста местного патриотизма Данте с завистью оглядывался на Римскую империю. Был ли прогрессивным такой взгляд? Будет ли один лишь католик утверждать, что «Олень и пантера» Драйдена — хорошее стихотворение? Разве мы осуждаем Блейка за то, что он не понял ньютоновской теории света? И ставим Вордсворта ниже Бейкера оттого, что последний лучше оценил паровой двигатель?
Можно ли с таких позиций объяснить, почему строчки:
Смейся над Эмметом, смейся над Парнеллом,
Над всеми поверженными кумирами —
хороши, а
Мне кажется подчас, что ты подобна дереву —
не хороши?
Подчеркивая всю абсурдность подобных утверждений, я не хочу сказать, что искусство никак не зависит от общественной жизни. Связь между ними существует — это сокровенная и необходимая связь, как и признал государственный обвинитель.
У каждого человека время от времени окружающий мир вызывает эмоциональное и интеллектуальное потрясение. У некоторых людей потрясение рождает такую словесную форму, которую принято называть стихами, — если эта форма может взволновать читателя, мы называем эти стихи хорошими. На самом же деле поэтический талант — это способность передать свой личный эмоциональный настрой другим людям. Поэты, то есть люди, обладающие поэтическим даром, перестают сочинять хорошие стихи тогда, когда перестают откликаться на явления окружающего мира. Будет ли эта реакция приятием или отрицанием, нравственным парением или нравственным падением, не суть важно — главное, чтобы она существовала. Поздний Вордсворт стал писать хуже не оттого, что изменились его взгляды, а оттого, что он перестал остро чувствовать и мыслить — подобная метаморфоза, увы, происходит с большинством пишущих, достигших преклонного возраста. Возвращаясь к подзащитному, мы сталкиваемся с поразительным примером, когда способность великого поэта испытывать потрясение не только не ушла с возрастом, но, напротив, лишь возросла. Через двести лет, когда наши потомки придут к иному и, надеюсь, лучшему социальному устройству, а наука поднимется до недосягаемых высот, кто, кроме историка, хоть на мгновение задумается о том, насколько покойный был прав или неправ в отношении ирландского вопроса или заблуждался, веря в переселение душ? Но, поскольку чувства, из которых родились его стихи, неподдельны, они по-прежнему будут волновать людей, как бы ни разнились их убеждения и верования.
Однако мы живем не в будущем, поэтому попытаемся строго, по-учительски оценить поэзию покойного с оглядкой на наше время.
Наиболее очевидным явлением за последние сорок лет стал крах либеральной буржуазной демократии, основанной на утверждении, что каждый человек рожден свободным, с равными правами и возможностями и что формальное политическое равенство, избирательное право, справедливый суд, свобода слова достаточно надежные гарантии для человека в его взаимоотношениях с окружающими. Результаты этого краха слишком известны. Отрицание социальной природы личности и власти денег привело к созданию наиболее обезличенного, механического и неравноправного общества из всех доселе известных человечеству, — общества, в котором единственным общим для всех классов ощущением стало чувство одиночества, оторванности от окружающего мира. Это — общество, раздираемое противоречиями, порожденными экономическим неравенством, праведным негодованием бедных и эгоистичной властью богатых.
Если подобное ощущение было неведомо покойному, это отчасти объясняется тем, что Ирландия по сравнению с остальными странами Западной Европы оставалась экономически отсталой страной и классовая борьба в ней не была столь острой. Мой оппонент потешался над национализмом покойного, но он не хуже меня знает, что национализм — необходимая ступень в движении к социализму. Он издевался над покойным за то, что тот не защищал независимость с оружием в руках, как будто убийство и баррикадные бои — единственная достойная форма социальной активности. Разве мало сделал для Ирландии Театр Аббатства?
Но вернемся к стихам. От первого до последнего они являют собой нескончаемый протест против атомизации общества, вызванной индустриализацией, а их идеи и язык, которым они написаны, всегда были способом борьбы с этим злом. Феи и легендарные герои его ранних произведений — это попытка отыскать в фольклорной традиции некое связующее, всеобъединяющее начало, а доктрина Anima Mundi, провозглашенная в поздних стихотворениях, есть, в сущности, та же самая идея, только очищенная от местного колорита во имя того, что покойный считал всечеловеческим, — иными словами, он жаждал мировой религии. Чисто религиозное решение может быть неплодотворным, но поиски его по крайней мере результат правдивого восприятия социального зла. К тому же добродетели, которые восхищали покойного в крестьянстве и аристократии, и пороки, которые он осуждал в буржуазии, и в самом деле являлись добродетелями и пороками. Создать единое и справедливое общество, в котором добродетели поощрялись бы, а пороки искоренялись, — задача политика, а не поэта.
Ибо искусство — продукт истории, а не идеи. В отличие от, скажем, технологических изобретений, оно не влияет на историю, как активная сила, поэтому вопрос, нужно или не нужно пропагандировать поэзию, не имеет смысла. Утверждения обвинителя основаны на ошибочном убеждении в том, что поэзия может что-либо изменить, тогда как доподлинная истина, джентльмены, заключается в том, что, если бы стихотворение не было сочинено, картина — нарисована, а джазовая миниатюра — инструментована, материальная культура человечества осталась бы неизменной.
Но есть сфера, в которой поэт становится человеком действия. Эта сфера — язык, и именно в ней величие покойного наиболее очевидно. Сколь бы ошибочные, недемократичные взгляды ни исповедовал покойный, его язык проделал последовательную эволюцию к тому стилю, какой можно назвать истинно демократичным. Социальные добродетели истинной демократии — братство и духовность, а их параллелями в языке являются мощь и внятность. И это добродетели, которые у покойного от книги к книге становились все более явными.
КАВАФИС[7]
С тех пор как ныне покойный профессор Р. М. Доукинс больше тридцати лет назад познакомил меня с поэзией К. П. Кавафиса, она оставила не один след в моих собственных стихах. Иначе говоря, я без труда перечислю вещи, которые, не зная Кавафиса, написал бы по-другому, если бы вообще написал. И это при том, что ни слова не понимаю по-новогречески и стихи Кавафиса мне доступны лишь в английских и французских переводах.
Последний факт не оставляет меня в покое и даже несколько выводит из себя. Как, видимо, любой из пишущих стихи, я всю жизнь верил, будто в том и состоит непереходимая грань между поэзией и прозой, что проза переводу на другой язык поддается, а поэзия — никогда.
Но если можно испытать влияние стихов, которые знаешь только по переводам, стало быть, несокрушимость упомянутой грани оказывается под вопросом. Значит, одни стороны поэзии от исходной словесной формы отделяются, а другие — нет. К примеру, ясно, что любая связь идей через созвучия слов ограничивается языком, в котором эти слова созвучны. Только в немецком Welt[8] рифмуется с Geld[9], и лишь в английском возможен каламбур Хилэра Беллока: