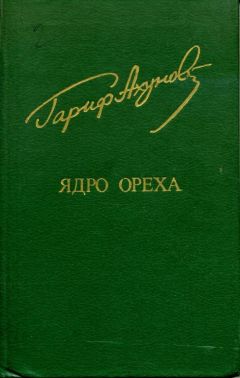Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Впрочем, вслушайтесь сами. Не вчитайтесь, а именно вслушайтесь — в ритм, в звучание, в организм фразы:
«Наконец они переехали. Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой…»
Это начало повести «Дачная местность» — наиболее совершенной по мастерству и вместе с тем наиболее остро обнажившей внутренние противоречия битовской прозы. Здесь нет внешнего сюжета, как в «Саде» или в «Пенелопе», здесь даже и само действие откатилось внутрь души и здесь герой Битова, литератор, курсирующий из Ленинграда на дачу и обратно, наиболее близок автору. В «Дачной местности» все держится одним напряжением мысли, интонационным ритмом, превращающим каждую фразу в самостоятельно ограненный кристалл. «Наконец они переехали…»
Все та же самая изысканная отточенность сквозит здесь. Когда Битов писал свою Азию — яркий поток впечатлений, — он учился у мастеров двадцатых годов. Теперь резкие цвета Юга кажутся ему неподлинными; «я — северянин», — пишет он; теперь его проза прозрачна, тонка, теперь ее предтечи отзываются где-то в глубинах прошлого века, в глубинах русской культуры, давшей миру великую словесность.
Сравните с этой прозрачностью тяжелую, препинающуюся, неловкую прозу В. Максимова, и вы почувствуете, что толща русской культуры рождает отнюдь не только беллетристические традиции, что в ее истории был, например, период Московской Руси, который, по точному определению одного писателя, кажется «.бессловесным», потому что в нем была слабо развита культура внешнего мышления, — однако именно этот период увенчался Аввакумом, и именно в этот период была впервые собрана воедино духовная жизнь гигантского народа. Так что максимовское бесстилье на мешает мне: Максимов-то как раз впрямую мыслит категориями духовности, еще не (или уже не) подвластными профессиональной изысканности.
Битов же, как литератор, вырастает, конечно, совсем из другого пласта русской культуры. Он сын двух веков послепетровской, просвещенной, европеизированной, литературной России; это «петербургское» наследие чувствуется и в эмоциональном интерьере «Дачной местности», — в сыром, ветреном, питерском воздухе, навевающем мысли, мысли, — и в самом стиле мышления, как бы вскрывающем свой сокровенный механизм.
«Я поеду в город, — оказал он. — «Когда?» — опросила жена. — «Сейчас».
Они поспорили — спорить с ним в эти дни не стоило, они покричали — начал плакать сын, они перестали разговаривать. Наконец жена захотела побыть одна, и Сергей получил разрешение поехать в город».
Вся эта механика по изощренности своей напоминает секреты американских прагматических психологов. Люди только воображают, что они решают проблемы; на самом деле они подсознательно действуют, как биологические автоматы. Накопилось желание покричать — нашли повод, заплакал ребенок, надо затихнуть — рассорились. У ребенка этот механизм и вовсе прост. Все по Вильяму Джемсу: ребенок плачет не оттого, что он горюет, он горюет потому, что его железы выделяют слезы. Но битовский герой прозревает этот механизм не только в окружающих; самое страшное, что он, писатель, знаток душ, в самом себе обнаруживает автоматического человека на каждом шагу, а вот выхода из этого тупика — не знает.
Выход должен быть, и он может быть только духовный. Система моральных ценностей отрывает человека от этой механичности, дает иную опору, иную точку отсчета. Но герой Битова не умеет преодолеть силы тяжести, пригибающей его вниз. По природе своей человек сильный и здоровый, он и опасается этим, он и в духовном сознании остается совершенно природным. Разумеется, он уже не наслаждается, как Кирилл Капустин, слаженной работой своих мышц при беге — он чувствует все тоньше, из спортсмена он превратился в гурмана; но по нравственному опыту он остается тем же здоровым юношей, который (помните «Сад»?) прощает другого человека, не потому, что проникся драмой другого человека, а потому что споткнулся сам. В нем есть природная тяга к простым ценностям; его духовный цикл замкнут на чувственном, эмпирическом уровне. «Он отдаст миру все, что взял у него, — пишет в статье о Битове критик И. Золотусский. — Он отдаст этой дачной местности — ее, дачную местность. И лету, ветру, дождю — их же самих. И это будет то высшее, к чему готовилась его душа».
Увы, это правда, но ликовать тут нечего: лето, ветер, дождь, простая первозданность природы — вот все, чем может ответить герой Битова на услышанную им в себе жажду высшего смысла жизни. Он ощущает простоту вещей и слов, идеи и мысли в нем бродят стадом, как овцы по зеленому лугу, — и эта зелень, эта природная простота, эта тонкая анакреонтика и есть то, чем он пытается заполнить душу. Это так, но если Золотусского это устраивает, если это и есть «то высшее, к чему готовилась душа», — то, знаете, лучше уж нам всем развиваться обратно к дождевому червю, который, как известно, тоже отдает природе «все, что он взял у нее».
Самого Битова этот естественный цикл во всяком случае уже не устраивает. Хотя у него и нет в запасе ничего иного. И отсюда — та тревога, которая разлита в новых повестях Битова. И отсюда — метания героя «Сада», который никак не может понять, «кто же он на самом деле». И отсюда. — состояние героя «Пенелопы», который чувствует, что он не способен вместить то, о чем догадывается, что «это слишком грандиозно для его сознания — врывается и опрокидывает». И отсюда — лейтмотив «Дачной местности»: «пустоту заполнить нечем, потому что тем, чем он собирался ее заполнить… этим… ему не хотелось». Битов ощущает неистинность, неокончательность того мира простых природных ценностей, в который он сбежал из городской суеты. Он смутно чувствует, что эти зеленые лужочки решают совсем не ту проблему, которая его мучает. И он знает непрочность этого решения. В его воображении маячит образ катастрофы, которая развеет весь этот эдем, — она является к нему в виде атомного гриба, описываемого с жуткой предметностью. «И мы полетели, как пылинки…» Чувствует ли Битов, что этот образ: слепой, сметающий все и вся, неостановимый атомный взрыв, перед которым человек не волен, — что такой образ смерти есть точнейший антипод и той жизни, которую рисует себе его герой: человеческое существование, приравнивающее себя к безлично-природной простоте, и смерть мыслит себе в виде безлично-апокалиптического взрыва, в котором мы — «полетели, как пылинки…»
Меня не убеждает этот жуткий образ — как раз потому, что он безличен. Мыслить смерть так — все равно, что ругать солнечное затмение. «Пылинки» все равно ничего не значат. В символе атомного взрыва меня больше задевает другая сторона, именно — что Клод Изерли, сбросивший на людей бомбу, сошел с ума на почве больной совести.
Но такой вариант зла и добро предполагает другое. Совесть не выведешь ни из работы мышц при беге, ни из зеленого лужочка, ни даже из мыслей, которые «мычат и блеют», как стадо. Совесть выявляет в человеке иной уровень. Мы и входим здесь в структуру духовных категорий, в систему общественного сознания, в мир личности, знающей, откуда добро.
Андрей Битов выразил готовность человека воспринять этот мир. Больше — тоску, когда человек вне его. Еще больше: главный нравственный принцип, который сформулирован у Битова с предельной остротой: безличное взаимоотношение людей есть предательство человеческого в них.
И все-таки того духовного общения, о котором тоскует битовский герой, — здесь нет. Переполненный людьми мир кажется безлюдным. Жажда общения «вывернута»; люди общаются полуавтоматически; Битов почти безумеет от этого расстояния между душами, но он не имеет сил преодолеть барьер. Ему не от чего оттолкнуться. Та природная, зеленеющая земля, которая притягивает и спасает его, — не более, чем твердая, осязаемая плоскость, и он не извлекает из нее иного смысла, чем этот — простой и однозначный.
Эта же самая земля, при иной системе духовных координат, может стать понятием, входящим в прочную систему нравственных ценностей. Но, повторяю, здесь будет иной счет, иной язык и иной опыт. И писатель, духовный мир которого мы исследуем под этим углом зрения, явится от совсем иных корней.
2. Василий Белов. «Из этой лесной крепости…»
Когда вокруг нового имени спорят — это дело привычное. Одни говорят «да», другие «нет». Странно другое — когда интерес к новому имени носит сплошь положительный характер. От «Октября» до «Нового мира» все говорят «да». Найдена точка, через которую идут все пути, слово, от которого все согласны начинать. Это слово — «народ».
Суть начинается тогда, когда прослеживаешь, куда же и откуда ведут пути, пересекающиеся в этой точке.
Белов начал тихо. Сидел в вологодских лесах, в «этой лесной крепости», печатался в местном альманахе. Не спешил. Центральная печать знала Белова по изданиям типа «Сельской жизни» и «Нашего современника»; его первая книга — тоненькая книжечка стихов «Деревенька моя лесная», вышедшая в Вологде, — ввела его в литературу как поэта народной традиции, но после Фирсова и Цыбина этот дебют не стал событием. Белов перешел на прозу. Он вписался в тип знатока «углов», мастера сельских или провинциальных очерков жизни. Критика зачислила его в соответствующий разряд авторов из глубинки: на Урале — Астафьев, на Кубани — Лихоносов, а в Вологде — Белов. Он начал как представитель писательского края, слоя, пласта — не столько начал, сколько обозначился: незаметно вписался, присоединился к типу. Наверное, поэтому критика сперва проглядела в нем глубоко личное и самобытное начало. Когда в 1965 году в Василии Белове вдруг открыли оригинального литератора, когда центральная пресса выделила его наконец из провинциального списка как индивидуальность, когда журнал «Москва» устами критика В. Литвинова объявил всенародно: «Народился писатель», то писатель этот, заметим, успел уже войти в возраст Иисуса Христа и Ильи Муромца (Белов 1933 года рождения), а за плечами его была уже и повесть «Деревня Бердяйка», трехлетней давности, и две книги рассказов. Прошел еще год. В начале 1966 появилась первая крупная повесть Белова — «Привычное дело». Ее рвали из рук: январская книжка журнала «Север» сделалась предметом охоты знатоков, имя Белова оказалось в центре литературного процесса.