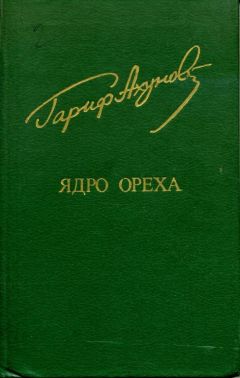Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
Но и требует этот личностный подход совершенно нового качества души — щедрости, веры, силы духа.
И тут выясняется самое драматичное: битовский герой лишен той духовной щедрости, которая может изнутри дать ему право прощать. Расщепив сознание своего героя, открыв в его рефлексах механичность, Битов так и не нашел в нем общего духовного контура. Есть какая-то униженная, тайная слабость в том, как этот парень скрывает от домашних свою любовь в том, как полуавтоматически тянет он у тетки варенье и ест из банки, чтобы не успели войти… в том, наконец, как механично, как-то давке вроде бесцельно лезет к тетке в стол и крадет облигации… Во всем этом оскорбителен не факт кражи — оскорбителен отказ от мотивировок. Слово «украсть» не приходит герою в голову, он действует не целостно, а по элементам: полез в стол, попутно прочел чужое письмо, ключи были там-то, облигации были связаны ленточкой… Подумать только, ведь, в сущности, это поступок отчаяннейший, ведь он, этот самый студентик, может быть, на свою маленькую голгофу сейчас идет ради любви, ведь он отнесет эти вытащенные деньги женщине, которой не на что выкупить из ломбарда платье, а она не просила его ни о чем, — любовь к ней держит сейчас на струнке все его слабое существо и гонит на унижение… Воистину, стоило бы ему произнести: «Я краду», как он тотчас же должен, был бы сказать: «Потому что у меня нет выхода: ведь я люблю ее…» — и тогда неизвестно еще, что перевесило бы на весах сострадания. Но он не знает, этот герой, того состояния духа, при котором начинают действовать категории любви и самопожертвования: он не мыслит в моральных категориях, их нет в его. духовном составе; он действует, как полуавтомат, импульсами: открыл ящик, взял, попутно прочел письмо, попутно лизнул варенье… Во всем этом самопожертвовании есть что-то неряшливое — так, словно нравственное подсознание у героя работает, а самосознание срезано, и он не может объяснить себе своего интуитивного шага.
Видимо, недостаточен тот чисто природный, естественный, здоровый комплекс ощущений, которым Битов решил заполнить нравственную пустоту, открывшуюся после того, как разлетелся впрах его кумир Генрих Ш. Когда-то битовский призывник совершал утренние пробежки, ощущая по отдельности все свои мышцы. Генрих Ш. заставил Битова отречься от этого суперменства. Он отринул «мужество Джека Лондона», заодно послав туда же и модного среди студентов Хемингуэя. Но изгнанный в дверь — черт влетел в окно. Отринув Джека Лондона, герой «Сада» кинулся читать Мелвилла. «Это была замечательная книга. Все, что он читал, было так осязаемо, просто и вкусно…» Чтобы вам было тепло, кончик пальца должен мерзнуть — эта мысль из «Моби-Дика» поразила Алексея. Вы должны лежать, как искорка тепла среди арктического холода — иначе вы не почувствуете, что вам тепло. Это точно выражает уровень духовности героя «Сада» — он не знает внутреннего тепла, а лишь такое, какое можно ощутить сравнительно с внешним холодом, — его тепло, его добро есть лишь реакция на зло, на внешний холод, от которого он хочет спрятаться, юркнув куда-нибудь. В нем есть незлобивость природно доброго существа, но нет гордости существа духовного, несущего в себе нравственное тепло безотносительно к обстоятельствам. Переменись ситуация — и он окоченеет внутренне. Ася-то ведь недаром тревожится за этого влюбленного в нее человека, и недаром сам Андрей Битов полон на его счет тягостной тревоги. Этот герой не способен растопить холод. Жизнь кажется ему спектаклем, потому что неистинен он сам. Оттуда, из «неистинного мира», приходит к нему женщина, которую он должен полюбить, да не просто полюбить, — простить. Он ее прощает, но не от щедрости и духовной силы, а от слабости, оттого, что и сам он — тайно неустойчивый, и слабый, зависимый от всего и вся, и жаждет «прислониться», и не знает внутри себя точки опоры. Так — словно вырвали из человека вразброс какие-то главные страницы, и он не может связать воедино свои человечные импульсы, свои естественные порывы. Он чувствует необходимость любви. В нем есть страсть. Есть желание. Есть даже жалость, порождаемая жалобностью. Но он не умеет понять, что с ним происходит. Поднять до себя — не умеет. Ему некуда «подниматься» — у него словно срезана духовность.
Цельноудивленный Боря Мурашов — из азиатских записок — вообще не ощущал в себе никакой недостаточности.
Призывник Кирилл Капустин почувствовал: что-то во мне не так, и тогда началась история личности.
Школьный приятель Генриха Ш. понял, что не так.
Автор «Сада» всем существом воззвал к тому, что «так» — к позитивному, личностному началу, к системе нравственных ценностей, дающих человеку внутреннюю опору. Он этой опоры не нашел, но он понял, чего у него нет. Он почувствовал, что где-то там, в его любви на тех уровнях, которых он еще не ощущает, — есть духовная красота, собирающая человека воедино. «Если любишь, то что же это такое, и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял — это было действительно, как «на пальцах» — они были отдельны от любви. Про жалость было уже темновато»… А любовь? «Да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе?..То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоем крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя… Так как же из тебя могло возникнуть большое?.. Дальше все сбилось, закрутилось…» Алексей дальше не выдерживал. Битов тоже быстро закончил повесть. Его герой, отлично владевший мышцами, прошедший путь от Джека Лондона до Мелвилла, почувствовал, что в его психологическом составе нет органов, которыми он мог бы уловить высший нравственный смысл своих естественных желаний.
Но это он уже почувствовал! Не умея ни осознать, ни назвать, ни сформулировать зреющего личностного начала, герой Битова нащупывает это начало вполуслепую; ему нужен какой-то внешний толчок, случай, казус, чтобы он практически натолкнулся на это новое ощущение в себе самом. Случится драма — и он почувствует, что отделяет человека от псевдочеловека. А что случится? Ну, как всегда у Битова — внешне — мелочь какая-нибудь. Скажем, так, идет герой по Невскому, посматривает на встречных женщин, понимает, что это подсматриванье — необязательное, безличное, почти автоматическое, понимает, что в этом подсматриванье есть элемент бесстыдства, которого, впрочем, никто не видит, а впрочем, еще более бесстыден тот факт, что это «никто не видит» его успокаивает, ибо самое дурное, конечно, тот автоматизм, с которым он посматривает на прохожих, попутно успокаивая себя. Одним словом, это типично битовская «мыслеграмма»: мысль, и мысль о мысли, и… Наверное, именно так, тайно рефлектируя, пряча от себя самого свои комплексы, ходил по Невскому герой «Сада», но на этот раз мы знакомимся с другим битовским персонажем, из рассказа «Пенелопа» — с молодым инженером Лобышевым, который, пользуясь отсутствием начальства, сбежал из своей конторы и теперь хочет потолкаться часок-другой на Невском, зайти в кино, вообще как-нибудь поразвлечься.
Сюжет, разыгрывающийся в рассказе, как всегда у Битова, мимолетен и, как всегда, вызывает психологическую боль. В дверях кинотеатра Лобышев этот самый сталкивается с незнакомой девушкой и — слово за слово — знакомится с ней. Они смотрят вместе «Одиссея», и он уже берет за руку свою неожиданную Пенелопу, восхищенный тем, как ловко он ее обрабатывает, как (слово за слово) склеил сначала необязательный разговор в толпе, лотом… Потом, после сеанса; они выходят на свет божий. Лобышев всматривается в свою новую знакомую; теперь он связывает воедино впечатления: и ее короткие, еще не отросшие волосы, и тесный, потертый пиджачок, и ковбойку, и выражение ее лица, тревожный вопрос, прячущийся за привычной разбитной общительностью. И теперь уже ее осторожные вопросы встают занозой в его памяти: «А кем вы работаете?.. Начальником отряда?.. Вы можете устроить меня на работу?.. Мне хоть кем, лишь бы на работу…» И видя как бы со стороны и себя, так прочно вписавшегося в толпу Невского проспекта, и ее, нелепую, не вписывающуюся, непонятно, откуда взявшуюся, он вдруг понимает, что он ничего для нее не сделает, что он боится, не может, что он сейчас юркнет в толпу, только чтобы не видеть ее понимающих все глаз, что он влип, как болван, что случилось нечто гадкое, не сейчас, когда он влип, а раньше, два часа назад, когда он начал заигрывать с ней перед сеансом, и еще более гадкое произойдет сейчас, когда он даст ей свой мнимый адрес и…
Герой «Сада» очень хотел бы «простить» свою возлюбленную, но он вряд ли понимал, какие душевные силы должен иметь прощающий; он «прощал» от слабости, и опытная Ася звала, что его и самого-то надо прощать.
Герой «Пенелопы» предает. Конечно вы можете сказать, что это опять буря в стакане воды — встретились, забыли, — но нравственная коллизия в «Пенелопе» доведена до предельной остроты, и это действительно буря, и смысл ее огромен. Битов моделирует предательство; нигде у него моральная проблема не концентрируется с такой силой, как в «Пенелопе». В сущности, Лобышев уже предал девушку в тот момент, когда заговорил с нею. Ибо он не с нею заговорил. Ему не было нужно в ней ее личное, ее неповторимое, единственное. Он адресовался к ней «функционально» — как к одной из многих, как к любой из многих: скачала «посматривал», потом «попробовал». Он предал человека и в ней, и в себе в тот момент, когда пошел на псевдообщение, это уже было «скотство», «скотство» в потенции. В «Пенелопе» поразительна резкость и ясность нравственного видения: когда ты делаешь человеку знак, выделяешь его из потока, из толпы — ты неизбежно задеваешь в нем личность, и в этот момент ты уже берешь на свои плечи всю ответственность, ты уже связан с ним, ты обязан, ты уже входишь в его судьбу и уже поступаешь либо — как человек, как личность, как существо духовное, либо — как скот, и тогда… вообще не трогай человека. А он — тронул. Тронул — и задел в человеке личность, и увидел, что человек несчастен. И тогда испугался, заюлил, предал. Удрал в толпу.