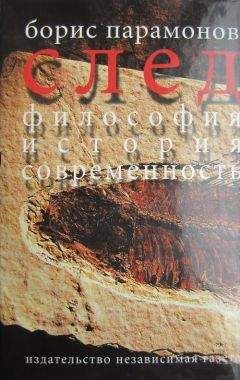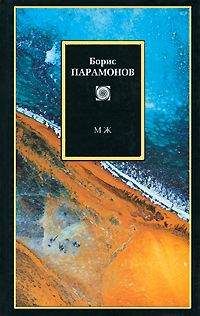Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова - Парамонов Борис Михайлович
Русский «серебряный век» создал целую галерею объязыченных, постницшевских образов Христа. Это «Христы» Иванова, Волошина («Аполлон» – «Христос» «солнечного диска»), Мережковского (полупризрачный «страдающий бог» Атлантиды); здесь же и «Исус Христос» Блока в пиршественном венке из роз. «Христос» – Эрос, вдохновитель «античной школы», в письмах Флоренского к Розанову дополнен еще одним образом – еврейским. Христология Флоренского, очевидно, имеет два лика – эллинский и иудейский, отражая действительное присутствие в христианстве начал «Афин» и «Иерусалима». Трактуя евангельские события, Флоренский создает на их основе жуткий миф в духе своего и розановского антисемитизма. Он исходит из представления о Христе как жертве, принадлежащего привычному богословскому контексту, но традицией слабо разработанному. В самом деле, жертвование предполагает субъектов, но на естественные вопросы, кем и кому была принесена жертва Христа, богословие не отвечает. Не-разработанность богословия жертвы – одна из причин нужды в теодицее. По-видимому, метафора «жертвы», взятая из контекста древнего ритуализма, все же неважно работает в кругу христианских идей. Обыкновенно богословы обходят молчанием семантику слова «жертва». Не то Флоренский: Христос именно в качестве жертвы – предмет его пристального интереса.
И вот он находит тех, кто жертвует Христом:
…для Флоренского, как и для Иванова, Иисус Христос – не просто жертва уклончивого богословия, но жертва вполне конкретная – ритуальная, причем ритуал здесь – не карнавальный обряд Сатурналий, как полагал Иванов, но древнейший тайный кровавый ритуал иудеев. Флоренский и Розанов верили в существование страшного иудейского эзотеризма, жертвой которого стал и Андрюша Ющинский. Сходная участь, утверждает Флоренский, постигла и Господа Иисуса Христа. Миф о ритуальном жертвоприношении Христа, осуществленном еврейством, и есть (один из аспектов) христологии Флоренского.
Андрюша Ющинский, напоминаем, это тот христианский мальчик, в ритуальном убиении которого был обвинен Бейлис. Против этого обвинения выступили в России все порядочные люди – кроме Василия Васильевича Розанова, издавшего целую книгу под названием «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Известно также, что некоторые разделы этой книги написаны Флоренским.
Но, Иван Никитич, в чем здесь, как теперь говорят, фишка? Это же написано не в осуждение евреев, а как бы им в похвалу. Розанов в такой экстремальности видит позитив иудаизма, евреев. Это свидетельство жизненности их религии в эпоху всяческого духовного оскудения и измельчания. Евреи, говорит Розанов, сохранили древние содержания жизни, не разошлись до конца на цивилизационную суету, в которой главную роль играют газетчики и адвокаты. И Флоренский ему в той переписке всячески поддакивает, даже, собственно, сам наводит его на соответствующие мысли. Самое важное, пишет Флоренский, – кровь и семя, все остальное – скучно. Вот тут главный мотив, главная средневековая тема. И даже не средневековье, а еще глубже – архаика, со всяческим колдовством и магией. Бонецкая очень красноречиво об этом пишет.
Вот каков, по новейшим материалам, православный священник отец Павел Флоренский: древний маг, жаждущий кровавых жертв.
И. Т.: Так и в самом деле можно назвать его фашистом?
Б. П.: Да, но при одном условии – углубить наши представления о фашизме. Не просто бесноватый фюрер, а нечто принципиально мировоззренческое. И вот тут мы должны опять обратиться к Томасу Манну, к его «Доктору Фаустусу». Томас Манн увидел трагедию Германии в этом древнем образе – мудреца, продавшего душу дьяволу. И вот в одной из глав романа описываются эти самоновейшие мудрецы, отнюдь не с горьким смехом рисующие актуальность нового средневековья. Это сцены в интеллектуальном салоне некоего доктора Кридвиса. Все, к сожалению, не процитировать, но вот возьмем хотя бы такой фрагмент:
…очень живо чувствовалась порожденная войной тяга к переоценке и отмене мнимо незыблемых жизненных ценностей. Живо чувствовались здесь и объективно определились: невероятная обесцененность индивидуума как такового в результате войны, невнимательность, с которой жизнь проходит теперь мимо отдельной личности и которая претворилась в людских душах во всеобщее равнодушие к ее страданиям и гибели. Эта невнимательность, это безразличие к судьбе одиночки могли показаться порождением только что закончившегося четырехлетнего кровавого пиршества; но никто не заблуждался: как во многих других аспектах, война и здесь лишь завершила, прояснила и нагляднейше преподала то, что давно уже намечалось и ложилось в основу нового жизнеощущения. Но так как это нельзя было ни хвалить, ни ругать, а можно было лишь объективно констатировать и принять к сведению; и так как в беспристрастном познании действительности, познании ради радости познания всегда есть что-то от приятия ее, то как же подобные наблюдения могли не повлечь за собой разносторонней, даже всеобъемлющей критики бюргерских традиций, то есть критики ценностей, созданных образованием, просвещением, гуманизмом, критики таких идеалов, как совершенствование народов через приобщение к науке? То, что критикой этой занимались люди, связанные с образованием, со школой, с наукой, и занимались весело, нередко с самодовольноблагодушным смехом, придавало делу какую-то особую, щекочуще-тревожную или даже слегка извращенную пикантность.
Каким же предстает новый мир в рассуждениях высокоумных собеседников доктора Кридвиса?
Это был старо-новый, революционно-архаизированный мир, где ценности, связанные с идеей индивидуума, такие, стало быть, как правда, свобода, право, разум, целиком утратили силу, были отменены или во всяком случае получили совершенно иной смысл, чем в последние столетия, будучи оторваны от бледной теории и кроваво переосмыслены, поставлены в связь с куда более высокой инстанцией насилия, авторитета, основанной на вере диктатуры, – не каким-то реакционным, вчерашним или позавчерашним способом, а так, что это переосмысление равнялось исполненному новизны возврату человечества к теократически-средневековому укладу. Если это и реакционно, то лишь в той мере, в какой путь вокруг шара, естественно огибающий его, то есть заканчивающийся в исходной точке, можно назвать движением вспять. Таким образом, регресс и прогресс, старое и новое, прошлое и будущее сливаются воедино, а политическая правизна все больше и больше совпадает с левизной. Беспредпосылочность анализа, свободная мысль, далекая от того, чтобы объявлять себя прогрессивной, становится уделом мира отсталости и скуки. Мысли дается свобода оправдывать насилие, подобно тому, как семьсот лет назад разуму предоставляли свободу разъяснять веру, доказывать догму: на то он и существовал, на то и существует сегодня и будет существовать завтра мышление. Анализ во всяком случае получает предпосылки – какие бы то ни было, а предпосылки! Насилие, авторитет коллектива – вот они, эти предпосылки, настолько сами собой разумеющиеся, что наука вовсе и не думает считать себя несвободной. Она вполне свободна субъективно – внутри объективной скованности, настолько вошедшей в ее плоть и кровь и естественной, что никоим образом не воспринимается как обуза. Чтобы понять предстоящее, чтобы избавиться от глупого страха перед ним, достаточно вспомнить, что обязательность определенных предпосылок и священных условий никогда не была помехой фантазии и индивидуалистической смелости мысли. Напротив, именно потому, что духовная стереотипность и замкнутость были заранее, как нечто само собой разумеющееся, заданы церковью средневековому человеку, тот был в гораздо большей степени человеком фантазии, чем гражданин индивидуалистической эпохи, и мог в каждом частном случае куда беззаботнее и увереннее дать волю личному воображению.
Разве нельзя представить Лосева и Флоренского в этом собрании высоких умов? Да каждой фразе из этого фрагмента можно найти параллельные места у Лосева и Флоренского. Это вот и есть новое средневековье, которое предвидел Бердяев.