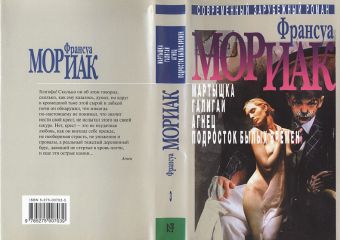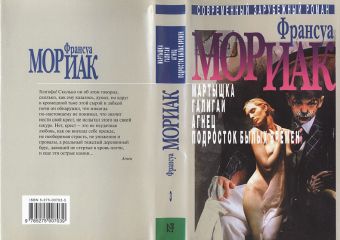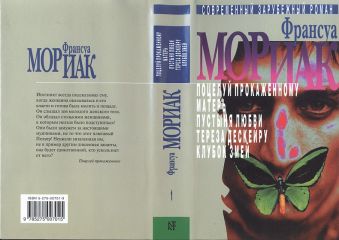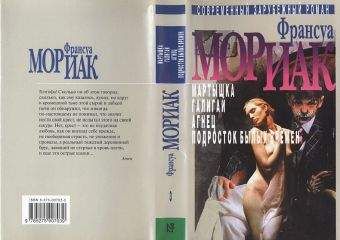Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Значит ли это, что я повторяюсь? Я утверждаю, что нет. Возможно, это тот же персонаж, но он поставлен в иные жизненные условия. В «Прародительнице» я столкнул его с властной матерью, в «Клубке змей» представил супругом, отцом семейства, дедом, главой рода. Я меньше всего склонен обвинять писателя в повторениях; вместо того чтобы требовать от него нового, навязывая ему искусственные приемы и произвольное изменение манеры, следовало бы, по-моему, восхищаться его способностью творить существа, которые могут, переходя из романа в роман, изменять свою судьбу и — превосходя в этом живых людей — в новых условиях начать жизнь заново.
Зачем мне отказывать этому человеку, чей образ неотступно преследует меня и который опять и опять воскресает — даже если я убил его к концу книги, — зачем отказывать ему в том, что я в состоянии подарить ему: другую судьбу, детей и внуков, которых у него не было? Я даю ему новый шанс... При моих возможностях это не так уж много, согласен... Но у героя романа — как и у каждого из нас, увы! — есть столько способов быть несчастным и заставить страдать других! Не хватит книг, чтобы их описать.
Когда от меня требуют нового, я говорю себе: надо брать глубже, в этом суть обновления; можно, идя вглубь, продвинуться вперед, не меняя кругозора. Если вы недовольны, что герой «Клубка змей», несмотря на различие обстоятельств, слишком похож на героя «Прародительницы», ваша критика не тревожит меня: я убежден, что в последнем по времени романе пошел дальше в понимании этого человека и глубже проник в его суть. Я осветил самые скрытые пласты его души.
Конечно, всем нам ведомо это искушение: опубликовать книгу, которая ни в чем бы не была похожа на то, что мы делали до сих пор, Порой я задавался вопросом: сумел ли бы я написать детектив или приключенческий роман с единственной целью развлечь читателя и держать его в напряжении? Возможно, я напишу такую книгу, но как принудительное задание, и она будет сильно уступать сочинениям профессионалов, набивших руку на подобной работе.
«Вы никогда не пишете о народе», — упрекают меня популисты *.
Но зачем принуждать себя к описанию среды, которую едва знаешь? В сущности, не имеет почти никакого значения, кого выводить на сцену: герцогиню, буржуазку или уличную торговку зеленью, главное — добраться до человеческой истины; и Прусту удается это как в отношении Германтов, так и Вердюренов; он раскрывает ее в бароне де Шарлюсе в той же мере, что и в служанке Франсуазе, уроженке Комбре. Этот подземный пласт собственно человеческого, до которого нужно добраться писателю, обнажается как в светской, так и в трудовой, полной забот жизни. Каждый из нас копает там, где родился или жил. Нет светских и народных писателей, а только плохие и хорошие. Итак, пусть каждый возделывает свое поле, каким бы маленьким оно ни было, не пытаясь оставить его, если ему этого не хочется, и — повторим вслед за одним из персонажей Лафонтена — «вложите в землю труд, земля не подведет» *.
Признаемся, однако, порой писатель страдает, сознавая, что, по сути, пишет всегда одну и ту же книгу и что все те, какие он уже сочинил, — лишь наброски произведения, которое он силится создать, никогда не достигая цели. Для него речь идет не о поисках нового, а, напротив, о том, чтобы, набравшись терпения, опять и опять начинать все сначала — вплоть до того дня, когда у него, возможно, появится надежда, что он наконец добился того, к чему упорно стремился, с тех пор как вступил в литературу. Писатели тщеславны, но у них куда меньше гордости, чем принято думать. Я знаю многих романистов, которые затрудняются ответить на вопрос, какие из своих книг они предпочитают, потому что все уже опубликованные произведения кажутся им лишь более или менее интересными по замыслу, но неудавшимися пробами, незавершенными набросками неведомого шедевра, который они, возможно, никогда не напишут.
* * *
За самым объективным романом — если речь идет о прекрасном, о великом творении — всегда скрывается драма жизни писателя, борющегося один на один со своими демонами и сфинксами. Но, может быть, гениальные достижения отличаются как раз тем, что эта личная драма ни в чем внешне не выдает себя. Очень понятно, почему Флобер сказал свою знаменитую фразу: «Госпожа Бовари — это я», однако нужно время, чтобы вдуматься в нее, — до того на первый взгляд трудно представить, что автор лично замешан в подобной книге. Это потому, что «Госпожа Бовари» — шедевр, то есть произведение, сработанное как бы из одного куска, которое воспринимается целиком, как законченный мир, существующий отдельно от своего творца. Чем менее совершенно наше произведение, тем больше оно выдает нас: сквозь щели романа проглядывает измученная душа несчастного автора.
Однако лучше уж такие полуудачи гения, в которых не достигнут синтез автора и его творения, чем написанные как бы со стороны, ловко построенные сочинения писателя без души или же писателя, который не хочет, не решается или не умеет отдаться целиком своему произведению.
Сколько раз, читая иную книгу или следя за развитием творчества писателя, я хотел крикнуть автору: «Забудьте о себе, доверьтесь своим чувствам, оставьте расчеты, не щадите себя, не думайте ни о читателях, ни о деньгах, ни о почестях».
Жизнь всякого писателя, каков бы он ни был, — если только это действительно большой художник — в конечном счете сводится к борьбе, часто смертельной, с собственным творением. Чем оно мощнее, тем сильнее порабощает его. Иногда оно навязывает ему жесточайший режим, так как то, что способствует творчеству, часто убивает романиста. Одних, как Флобера, творчество обрекает на своего рода пожизненное заточение, другие, как Пруст, вкладывают в него свое последнее дыхание и даже в агонии продолжают питать его своим существом.
Если художник болен, как это было в случае Флобера и Пруста, то его творение вступает в сговор с болезнью и использует ее в своих целях. Паскаль говорил, что болезнь — естественное состояние христианина; с еще большим основанием это можно сказать о писателях. Эпилепсия Флобера, астма Пруста изолировали их от мира, принудили к заточению и держали взаперти между столом и постелью. Но в то время как первый искал выхода в книгах, Пруст знал, что вместе с ним в его обитой пробкой комнате заперт целый мир, знал, что в этих четырех стенах, в его жалком, сотрясаемом кашлем теле больше воспоминаний, чем если бы он прожил тысячу лет, что он хранит в себе и может извлечь из себя эпохи, общественные классы, времена года, поля, дороги, словом — все, что он знал, любил, вдыхал, выстрадал: все это было ему дано в его окуренной лекарствами комнате, из которой он почти никогда не выходил.
Но болезнь не только навязывает образ жизни, подходящий для работы. Эпилепсия Достоевского оставила глубокий след на всех его персонажах, отметила их своим знаком, по которому их сразу узнаешь, и именно она сообщила особую загадочность созданным им человеческим характерам. Все недостатки, все отклонения художника — если это гений — тоже служат его творчеству, оно использует их, чтобы распространиться в тех направлениях, куда никто еще не рискнул заглядывать. Закон наследственности, который правит человеческой семьей, относится также к писателю и его воображаемым духовным детям; но — будь у меня время и смелость, я постарался бы это доказать — в мире романа случается, что недостатки творца не только не вредят существам, которых он рождает, но даже обогащают их.
Зато если романист — человек уравновешенный и физически крепкий, каким был, например, Бальзак, то его творение будет расти до тех пор, пока, не уничтожит гиганта, породившего его. Мир, поднятый Бальзаком, обрушился на него и раздавил. Если же творению не удается прикончить художника, оно превращает его в особое существо, стоящее над другими людьми, оно внушает ему стремления и требования, не отвечающие обычным условиям жизни: когда Толстой женился, он был еще такой, как все, и он обзавелся семьей, но, по мере того как он становился великим художником, по мере того как формировалось его учение и он стал ощущать, что внимание всего мира приковано к малейшим его жестам, его семейная жизнь понемногу превращалась в настоящий ад.
Впрочем, не будем впадать в отчаяние: такова судьба лишь очень больших писателей, а творения большинства из нас, честно говоря, не так уж опасны. Они не только не пожирают нас, но ведут усыпанной цветами дорогой к признанию любезных читателей и высоко ценимым почестям. Мы научились укрощать и приручать чудовище, и тем легче, чем оно слабее... увы! Во многих случаях можно спросить, живо ли оно еще? Да и что, нам бояться какого-то соломенного пугала? Романист, наладивший серийное производство картонных персонажей, может быть совершенно спокоен. Случается, впрочем, что в былые времена он создавал и живых, но наше произведение часто умирает раньше нас, а мы остаемся жить, жалкие, осыпанные почестями и уже забытые.