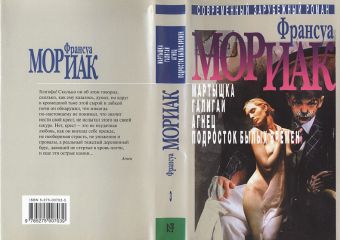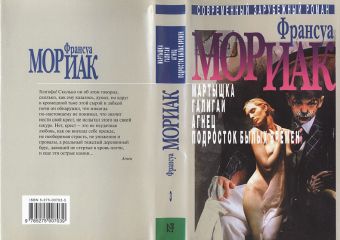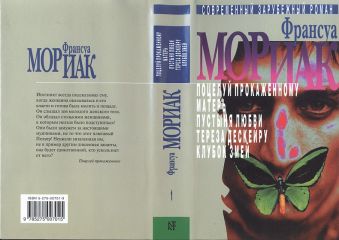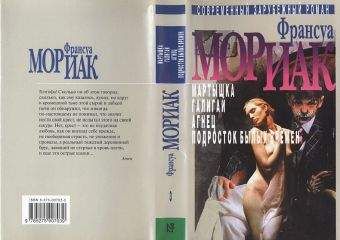Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
* * *
Я хотел бы, чтобы эти строки возбудили у читателей сложное чувство по отношению к роману и романистам — сложное, как сама жизнь, изображение которой составляет наше ремесло. Эти несчастные люди, к которым я принадлежу, все же заслуживают жалости и, возможно, некоторого восхищения за то, что отважились на столь безрассудное дело и продолжают в своих книгах фиксировать, останавливать движение и время, очерчивать четким контуром чувства и страсти, тогда как в действительности наши чувства непостоянны и страсти беспрерывно развиваются. Точно так же, вопреки уроку Пруста, мы упорно продолжаем говорить о любви как об абсолюте, тогда как в действительности мы ежесекундно бываем глубоко равнодушны к самым любимым людям, но зато, несмотря на неизбежный закон забвения, ни одна любовь никогда не умирает окончательно в нашем сердце.
Переменчивого и сложного человека Монтеня мы превращаем в ловко пригнанную конструкцию, которую разбираем на части, деталь за деталью. Наши персонажи рассуждают, у них ясные, четкие мысли, они делают именно то, что хотели сделать, и действуют, руководствуясь логикой, в то время как в жизни основу нашего бытия составляет бессознательное и мотивы большинства наших поступков ускользают от нас самих. Всякий раз, когда мы описываем событие таким, как наблюдали его в жизни, именно это место в нашей книге критика и публика почти всегда находят неправдоподобным и невероятным. Это доказывает, что человеческая логика, которая вершит судьбы героев романа, не имеет почти ничего общего с темными законами подлинной жизни.
Но если мы не в состоянии преодолеть присущее роману противоречие и передать ту величайшую сложность жизни, которую призваны запечатлеть, если не можем взять приступом это огромное препятствие, нельзя ли как-нибудь обойти его? Это значило бы, как мне думается, откровенно признать, что современные романисты были слишком самонадеянны. Речь идет о том, чтобы смиренно отказаться от соперничества с. жизнью. Речь идет о том, чтобы признать, что искусство по самой своей природе искусственно и что, даже если нам не дано охватить реальность во всей ее сложности, можно тем не менее выразить определенные аспекты человеческой истины, как это делали в театре великие классики, используя самую что ни на есть условную форму пятиактной трагедии в стихах. Придется признать, что искусство романа — это прежде всего транспонировка, а не воспроизведение действительности. Разве не поразительно, что, чем больше старается писатель ничего не упустить из ее живой сложности, тем сильнее ощущение искусственности? Что может быть неестественней и произвольней тех ассоциаций идей, на которых строится внутренний монолог у Джойса? То, что происходит в театре, могло бы послужить нам уроком. С тех пор как звуковое кино стало показывать реальных людей на природе, реализм современного театра, его рабское подражание жизни кажутся в силу сравнения верхом искусственности и фальши; мы начинаем догадываться, что театр избежит смерти, только если вернется к своему истинному призванию, то есть к поэзии. Ему доступна правда о человеке, но только через поэзию.
* * *
Сейчас роман как жанр тоже зашел в тупик. И хотя лично я испытываю перед Марселем Прустом восхищение, которое с годами лишь усиливается, я убежден, что он буквально неподражаем и что искать выхода в том направлении, в каком он отважился пойти, напрасный труд. В конце концов, разве человеческая истина, раскрытая в «Принцессе Клевской», в «Манон Леско», «Адольфе», «Доминике» или «Тесных вратах», так уж незначительна? И разве в классических «Тесных вратах» психологический вклад Жида меньше, чем в «Фальшивомонетчиках», написанных по самым новейшим эстетическим принципам? Признаем же смиренно, что персонажи романа — не живые люди из плоти и крови, а лишь их транспонированное и стилизованное изображение. Согласимся с тем, что правда доступна нам лишь в преломлении. Нужно смириться с условностями и ложью нашего искусства.
Мы недостаточно задумываемся над тем, что даже при самом точном изображении действительности роман лжет уже в силу того, что герои объясняются и рассказывают о себе. Потому что в судьбах людей, особенно много перестрадавших, слова мало что значат. Драма живого существа почти всегда протекает и развязывается в молчании. В жизни главное никогда не высказывается. В жизни Тристан и Изольда разговаривают о погоде, о даме, которую они утром встретили, и Изольда заботливо спрашивает Тристана, достаточно ли хорош кофе. Роман, во всем подобный жизни, будет в конечном счете состоять из одних многоточий. Потому что любовь, являющаяся основой почти всех наших книг, представляется мне самой молчаливой из всех страстей. Герои романа живут, если можно так сказать, на: другой планете — на планете, где человеческие существа объясняются, открывают душу и анализируют себя с пером в руках, ищут сцен, вместо того чтобы избегать их, подчеркивают и предельно упрощают свои смутные, неопределенные чувства и, вырвав из широкого живого контекста, рассматривают под микроскопом.
И тем не менее благодаря всей этой фальсификации были частично раскрыты великие истины. Эти вымышленные, ирреальные персонажи помогают нам лучше понять самих себя, осознать, кто мы такие. И не герои романа должны рабски следовать жизни, а, напротив, живые люди должны извлечь урок из анализа великих романистов и понемногу перестроиться. Великие романисты дают нам то, что Поль Бурже назвал в предисловии к одной из своих первых книг иллюстрациями к анатомии морали *. Каким бы живым ни казался нам литературный персонаж, романист всегда гипертрофирует какое-нибудь одно его чувство, одну страсть, чтобы позволить нам лучше изучить их; какими бы живыми ни казались нам эти герои, они всегда несут определенную мысль, их судьба содержит урок, мораль, которой мы никогда не найдем в реальной судьбе, всегда запутанной и исполненной противоречий.
Герои великих писателей, даже если автор не стремится ничего доказать или проиллюстрировать, всегда владеют истиной, которую мы можем не разделять, но которую каждому из нас дано открыть и применить. И наверное, смысл и оправдание нашего абсурдного и странного ремесла как раз и состоит в создании этого идеального мира, благодаря которому живые люди могут лучше разобраться в собственной душе и отнестись друг к другу с большим пониманием и жалостью.
Многое нужно простить писателю за тот риск, на который он постоянно идет. Потому что писать романы совсем не безопасно. Помню название одной книги — «Человек, который потерял свое я». Так вот, романист каждый миг ставит на карту свою личность, свое «я». Как рентгенолог подвергает опасности свое тело, так писатель рискует самой целостностью своей личности. Он играет всех своих персонажей, превращается в демона или ангела. Он далеко заходит в воображении — как в святости, так и в подлости. Но что же остается от него самого после этих многообразных и противоречивых перевоплощений? Бог Протей *, меняющий по желанию образ, в сущности, не является никем, так как может быть всяким. Вот почему писателю, больше чем любому другому человеку, необходима надежная опора. Он должен противопоставить силам распада, без передышки воздействующим на него — я говорю «без передышки», потому что романист никогда не перестает работать, даже и особенно тогда, когда его видят отдыхающим, — другую, более могучую силу; он должен восстановить свое внутреннее единство и упорядочить свои многочисленные противоречия на незыблемой, как скала, основе; он должен кристаллизовать противоборствующие силы своего существа вокруг Того, кто никогда не меняется. Внутренне расколотый и тем обреченный на гибель, писатель спасется лишь в Единстве, он вернется к самому себе, только вернувшись к Богу.
МОИ ВЕЛИКИЕ
Бальзак
Пятнадцатилетний мальчик по имени Поль Бурже как-то вошел в читальню на улице Суфло и попросил первый том «Отца Горио».
Был час дня, когда он начал читать. Когда же юный Поль, проглотив книгу целиком, вышел из читальни, было семь вечера.
«Меня пошатывало — так сильны были галлюцинации после этой книги, — пишет Бурже. — Интенсивность видений, в которые погрузил меня Бальзак, произвела во мне такое же действие, какое производит алкоголь или опиум. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вновь освоиться с реальностью окружающего мира и с собственной убогой реальностью...»
Случай открыл перед ним как раз ту дверь, через которую и надо вступать в «Человеческую комедию». Нет, не потому, что «Отец Горио» выше остальных произведений Бальзака; просто этот роман представляется мне чем-то вроде центральной поляны в парке. Отсюда отходят широкие аллеи, которые Бальзак проложил в чаще человеческого леса. Дом Воке, куда мы попадаем с первых же страниц, этот «семейный пансион», чей затхлый, прогорклый запах будет преследовать нас еще долго после того, как мы закроем книгу, и тошнотворная обеденная зала с ящиком, в нумерованных отделениях которого нахлебники хранят свои грязные салфетки, — вот то гнездо, откуда вылетят бальзаковские персонажи, чтобы стать нашими проводниками. Отныне нам достаточно следовать за ними из тома в том, чтобы связать нити пересекающихся судеб, из которых соткана ткань «Человеческой комедии».