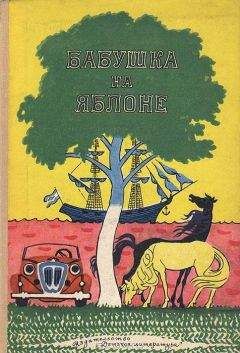Николай Добролюбов - Из «Свистка»
Положим, что ничего этого г. Гладин и не говорил г. Кокореву, как уверяет г. Козлов («Северная пчела», № 102); положим, что он даже никогда и не работал на шоссе около Бреста. Но все равно – ведь г. Кокорев влагает такие слова в уста г. Гладина: значит, у него составилось о Гладине именно такое понятие, какое выражается в этих словах. А иметь такое понятие о человеке и считать его очень заботливым и добрым для рабочих подрядчиком, это уж такая наивность, которую подозревать в В. А. Кокореве мы даже не имеем права. Чем же мог так понравиться г. Гладин г. Кокореву? Неужели тем, что «рабочие отзываются о Гладине как о человеке хорошем, только приказчиками его недовольны и так мало верят им, что боятся даже за свой расчет»? Ведь это значит, что Гладин просто злодей и губитель своих рабочих: самому ему все равно, мрут люди, так мрут, так видно, надобно; здоровы, так ладно, – место, видно, хорошее… А приказчики у него постоянно такие, что от них житья нет; гнилым хлебом кормят, в бунте обвиняют, расчет задерживают, ставят на работах казаков с саблями и нагайками… Это все к Гладину не относится: он человек добрый, и г. Кокорев нарочно хлопочет, чтобы подряд остался именно за ним… Чем объяснить такую невинность г. Кокорева? Неужели тем, что в его положении очень выгодно защищать всякого главного распорядителя, сваливая всю вину на подчиненных? В свою очередь, и г. Кокорев должен быть так же точно оправдан и восхвален, несмотря на все вопиющие ужасы, которые совершаются в подведомых ему делах… Ведь не он сам делает все эти ужасы; он, напротив, человек добрый – хлопочет о мясе для рабочих, а не только о хлебе: он даже и популярность между ними приобретает, ибо раздает им полушубки, взятые из кладовых Гладина же («Северная пчела», № 102). А в какой степени зависят от него все беспорядки, притеснения и мерзости, совершаемые другими в его ведении и в его интересах, до этого кто же станет добираться…
Но великодушию г. Кокорева нет никаких пределов, а самобичевание посредством гласности сделалось у него чем-то вроде хронической болезни. Бывают, говорят, организмы, чувствующие особенный страстный трепет от удара плетью или розгами; такой же сладкий трепет и возбуждение ощущает, по-видимому, г. Кокорев от оглашения какого-нибудь из своих недостойных поступков. Так и в настоящем случае: доказав очень ясно, почему и для чего выбрал он Гладина и почему на него положился, он вдруг переходит к самообличению в таком тоне:
В непредусмотрительной перевозке рабочих нельзя, по совести, обвинять подрядчика Гладина: он руководствуется прежним образом действий и не может иметь понятия о требованиях новых (то есть кормить рабочих не гнилым хлебом – это новое требование (!!!), за исполнение которых должно отвечать правление, – и я, разумеется, разделяю вину с прочими, как учредитель. Мы считаем себя умнее, образованнее подрядчиков (вольно же вам!), следовательно, мы и должны были подумать, как бы перевезти рабочих без всяких затруднений{83}.
Видите, какое смирение, какая готовность обвинить себя! Конечно, говорит, это, собственно, не наше дело; но мы так умны, так проникнуты новыми требованиями, что должны бы взять на себя труд наблюдать за действиями меньших братьев (то есть подрядчиков), которым недоступны новые требования. Мы этого не сделали, и мы виноваты: казните нас за то, что мы умнее других…
Так говорит г. Кокорев; но чтобы вы в самом деле не подумали, что он виноват, он сейчас находит другую, весьма уважительную причину, от которой произошли все бедствия рабочих и которая от него уже решительно не зависит. Вот эта причина:
Затем многие неудобства надобно отнести к неимению на Волге телеграфа, при котором всегда бы можно было телеграфировать о заготовлении не только печеного хлеба, но и мяса{84}.
Причина эта никому не приходила в голову, но для г. Кокорева она служит полнейшим оправданием. Как человек европейский, привыкший к новым требованиям, он воображал, разумеется, что на Волге есть телеграф, по которому если нельзя пересылать хлеба, то можно по крайней мере «телеграфировать о заготовлении не только печеного хлеба, но и мяса». В этой сладкой уверенности он и не подумал обратить свою заботу на заготовление не только мяса, но и печеного хлеба. Как же вы хотите иначе? Передовой человек, он не может никак свыкнуться с невежеством и грубостью наших нравов. Телеграфов нет! Фи! Да как же после этого удивляться, что люди сидят без хлеба, хворают от того и мрут в несоразмерном количестве! О невежественные россияне! Заведите прежде телеграфы по Волге и тогда уже претендуйте на свежий хлеб, на соль и постное масло!..
Впрочем, справедливость требует заметить, что г. Кокорев, как друг профессора Погодина, и здесь не изменяет высокому чувству патриотизма: он разумеет, очевидно, не иностранные телеграфы, а российские, которыми известия передаются на расстоянии, например, 1000 верст два, три, иногда шесть, а иногда даже и девять дней. Что именно о таких телеграфах хлопочет г. Кокорев, это видно из соображения быстроты собственных его действий. Письмо о самарском происшествии и о приказчиках Гладина писано им 30 мая; а затем подробнейшее исследование дела было им произведено только в половине июля, через полтора месяца, когда он сам приехал в Царицын. При этом оказалось, что положение рабочих вполне плохо; значит, для них ничего не было сделано ни обществом, ни г. Кокоревым с тех пор, как благодетельная гласность обнаружила их бедствия. Да и что же было еще делать? Написали в газетах гуманное послание, с азартом, с новыми требованиями… Чего же еще? Дело-то делать? – это еще погодите, это впереди. А нынче —
Нынче время не такое:
Процветает гласность{85}.
Голодали рабочие дорогой: через месяц это было любопытным предметом для гласности. Хворали и мерли люди на работах все лето: в конце июля г. Кокорев сочинил «Царицынские записки», а в ноябре напечатал всю историю своей поездки в «Русском вестнике», этом знаменитом поборнике гласности. И прекрасно: мы очень довольны!..
А что нашел г. Кокорев на работах и что он сделал там? Хотите знать, так мы расскажем и это, только вкратце, потому что не след вводить в «Свисток» такую материю во всем ее ужасе.
По прибытии в Царицын рабочие опять голодали, потому что «скудный царицынский рынок не мог удовлетворить спросу». Для рабочих буквально ничего не было заготовлено, и даже главная царицынская контора с управляющим своим г. Позенковским прибыла в Царицын через три недели после рабочих. Все это время рабочие должны были обходиться собственными средствами – сами устроивали себе балаганы, кухни, кладовые для провизии… Тут же и начались болезни. Царицынская контора принялась писать в контору подрядчика разные предписания об устройстве лазаретов и пр., но сама ничего не делала и только, по прекрасному выражению г. Кокорева, «насмехалась над священными обязанностями человеколюбия, которые в этом случае совпадают с выгодами общества». Действительно, выгоды общества соблюдались бы тут лучше, если бы рабочих не так пренебрегли; а то, по свидетельству г. Кокорева, в первый же день по прибытии на место у Гладина ушло 300 человек! Господин Козлов, разумеется, негодует за это на рабочих и приписывает их бегство желанию зажилить полученный задаток и получить хорошие заработки у донцов на сенокосе. Но нетрудно сообразить, какую роль играло в этом случае бедственное положение рабочих по прибытии в Царицын, после питания жеванием крупы…
Наконец, по словам г. Кокорева, рабочие устроились. Вот некоторые указания на то положение, в каком находились они около половины июля, когда посетил их гласнолюбивый и гуманноречивый почетный член правления:
Рабочие живут в выкопанных в земле ямах; в ямах этих устроены по обеим сторонам нары, и на них нет ни соломы, ни рогожек; под боком доска, в голове кулак (стр. 50).
Шалаши сделаны с такой же небрежностью, низки, тесны и без отверстий для воздуха. Шалашей сделано мало: по 20 человек лежит в каждом из них, а когда число заболевших возрастает и привозят новых людей, им приходится лежать на земле и ждать, пока не состроят нового помещения, а в таком случав постройка идет скорая и кое-как. Нет соломы, нет рогож и войлоков, чтобы смягчить для больного ложе. Некоторые лежат на мешках с сеном, а больше на своих же шубах (стр. 51–52).
Распорядители нашли нужным расставить военных казаков по всем пунктам пребывания рабочих, и даже около лазарета стоят два казака с саблями и нагайками (стр. 53).
Конопляное масло во многих местах горькое. Бойня для скота одна; с нее приходится возить мясо за двадцать пять верст, отчего оно при здешних жарах может подвергнуться порче. На 59-й версте, где находится триста человек рабочих, оказалась овсяная крупа дурной выделки: в ней много овса. На 48-й версте мы нашли очень дурной горох, черный, неразваривающийся и жидкий (стр. 55).