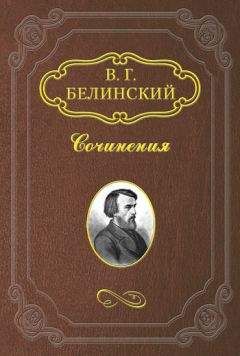Евгений Замятин - Москва - Петербург

Обзор книги Евгений Замятин - Москва - Петербург
Евгений Замятин
МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ
«Москва — женского рода, Петербург — мужеского», — писал Гоголь ровно сто лет назад. Это — как будто случайно брошенная шутка, грамматический каламбур, но в нем так метко подсмотрено что-то основное в характере каждой из двух русских столиц, что это вспоминается и теперь, через сто лет.
Петербург с тех пор успел стать Ленинградом, но остался Петербургом гораздо больше, чем Москва — Москвой. Москва отдалась революции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петербург. Да и как же иначе: победившая революция стала модой, а какая же настоящая женщина не поторопится одеться по моде? Петербург принимал новое без такой торопливости, с мужским хладнокровием, с большой оглядкой. Он шел вперед медленней, и это понятно: ему приходилось нести с собой тяжелый груз культурных традиций, особенно ощутительных в области искусства. Без этого громоздкого багажа, налегке — московские музы мчались, обгоняя не только Петербург, но и Европу, а иногда заодно и здравый смысл. «Москва требует, чтоб если уж пошло на моду, то чтоб по всей форме была мода!» — подтрунивал над Москвой еще Гоголь, уже он знал эту ее женскую слабость.
Впрочем, эта безоглядная погоня за новым — не только женская черта, она идет еще и от молодости: новой Москве, живущей рядом, поверх, сквозь старую, шестисотлетнюю, — минуло только шестнадцать! От неожиданных, пестрейших сочетаний старого и нового — в Москве кружится голова: Петербург строже: он и теперь, как во времена Гоголя — «не любит пестрых цветов». Петербург останется окном в Европу, на Запад; Москва стала дверью, через которую с Востока, сквозь Азию, хлынула в Россию Америка.
Это — конечно, не больше, чем схема. В жизни, особенно в зеркальной — в искусстве — такой географической точности нет: там, смотришь, задорный, московский вихор мелькает на Невском проспекте, там крикливая московская площадь притихнет под строгой тенью петербургского Медного Всадника. Но несмотря на эту перетасовку, сквозь все перемены, во всех зеркалах — можно разглядеть свое лицо у каждой из двух столиц. И, может быть, отчетливей всего это видно в каменном зеркале архитектуры, в том, какой след оставлен здесь революцией в Петербурге и Москве.
Петербург рос, как правительственный, императорский город, его строила казна, государство, система. Большая часть зданий, определяющих его лицо великолепные работы Растрелли, Гваренги, Томона, Воронихина — вышла из эпохи Екатерины, первых Александра и Николая. Безвкусие последних императоров, к счастью, не успело положить на северную столицу своей печати: к этому времени основная архитектурная композиция Петербурга оказалась уже законченной. Таким он встретил и революцию, и эта его законченность, архитектурная полнота, была причиной того, что и после революции он сохранил свое прежнее лицо. Для нового — не было уже места нигде, кроме петербургских окраин: только там революция и оставила следы, там кругом Петербурга медленно растет Ленинград, элементами которого является, например, удачно скомпонованный квартал новых домов для рабочих у Нарвских ворот, с огромным отлично оборудованным театром — «Домом Культуры» и такие же «Дома Культуры» в других рабочих районах.
Совсем по-иному, по-восточному, строилась царская Москва: капризно, раскидисто, пестро, бессистемно. Ее ростом не руководила ничья единая воля. В противоположность императорскому Петербургу, она была помещичьей и купечески столицей — купеческой по преимуществу. Разбогатевшие выходцы из какой-нибудь уральской глуши, с волжских старообрядческих скитов — оседали здесь и строили для себя «особняки», по своей уральской и волжской фантазии. Так же, и дворцы для Петербурга — для Москвы типичны эти «особняки», дома для одной семьи, бесцеремонно расположившиеся рядом с современными многоэтажными громадами. И кроме особняков — церкви, бросающееся в глаза множество церквей, большей частью очень древних, ХIV — ХV вв., наследство той эпохи, когда Москва была столицей благочестивых царей.
Как только Москва после революции снова стала столицей, она была наводнена огромным количеством учреждений и чиновников, рожденных новым социалистическим типом хозяйства. Острейший жилищный кризис, какого не испытывала ни одна из европейских столиц, заставил спешно заняться постройкой новых домов. Уступая им место, с центральных улиц Москвы стали исчезать прежние небольшие «особняки» — и стали исчезать церкви (что было связано и с антирелигиозной политикой власти).
Лицо города, отдельных его частей — особенно изменяет снос таких характерных строений, как церкви. Те, кто видел, например, прежнюю площадь на берегу Москва-реки с храмом Спасителя, теперь не узнают ее: видной издалека золотой головы, огромного желтовато-белого тела храма — уже нет. Это колоссальное здание большой архитектурной ценности не представляло, но нельзя не пожалеть о разрушении таких старых построек, как Симонов монастырь, Чудов монастырь в Кремле, как старая Сухарева башня, очень украшавшая площадь в конце Сретенской улицы. В иных случаях снос таких старых построек оказался оправданным с точки зрения архитектурно-композиционной. Так очень выиграл вид на Кремлевскую Красную площадь после сноса Иверских кремлевских ворот и Иверской часовни; теперь со стороны Охотного Ряда на синем фоне неба виден великолепный собор Василия Блаженного, раньше заслонявшийся воротами и часовней.
Новых, недавно построенных, домов совсем не видно в центральных частях Москвы. Именно «бросаются в глаза»: это вторгшаяся в старую Москву Америка, вернее — общедоступное берлинское издание Америки — «конструктивные» комбинации каменных кубов, типа работ Корбюзье. Но московский вкус требует «чтоб по всей форме была мода»: Москва постаралась «перекорбюзьерить» Корбюзье, там иные из таких новых зданий еще суше, абстрактней, голее. Типичный пример этого стиля — выкрашенный в темную краску угрюмый куб Института Ленина в самом центре Москвы на Тверской улице. Некоторые из левых московских архитекторов объявили этот американско-берлинский стиль «пролетарским» (а стало быть — самым модным), но… пролетариат не поверил и запротестовал, когда эти унылые кубы стали расти в рабочих районах. Один из виднейших московских архитекторов, Щусев признался: «Оказалось, что упрощенный конструктивистский тип архитектуры не во всех случаях близок и понятен массам… Коробкообразная, плохо сработанная внешность зданий скоро приелась… Потребовалось знакомство с работами великих мастеров прежних эпох… Архитектура без усвоения двух родственных искусств — живописи и скульптуры — не может справиться со своими задачами»…
Из двух родственных архитектуре искусств — скульптура, казалось бы, должна была расцвести в новой революционной России: победившая революция обнаружила явное стремление закрепить себя в веках установкой соответствующих монументов на улицах и площадях обеих столиц. Монументы эти очень быстро размножались в первые пореволюционные годы, но также быстро и исчезали, ибо они делались из самых недолговечных материалов — вплоть до гипса. Такая непредусмотрительность была очень счастливой: сделанные наспех, дисгармонировавшие с архитектурным окружением, эти фигуры, бюсты, бюстики отнюдь не украшали революционных столиц. Иные из них по новой советской терминологии были бы, пожалуй, теперь признаны даже вредительскими: как иначе назвать один из первых петербургских памятников Марксу — бюст (работы Матвеева), изображавший основоположника коммунизма… с моноклем в глазу?! Маркс, как известно, действительно носил монокль, но этот буржуазный аксессуар слишком резко нарушал канонизированный образ.
Императорский период, сравнительно мало заметный в Москве, на улицах и площадях, на набережных и в парках Петербурга, оставил целую бронзово-каменную летопись, открывающуюся великолепным, воспетым Пушкиным, «Медным Всадником» работы Фальконета. У революционного Петербурга хватило вкуса и выдержки, чтобы сохранить, за самыми малыми исключениями, все эти монументы. И у Петербурга хватило чувства стиля, чтобы один из немногих, уже не временных, а постоянных революционных монументов «фигуру Ленина» поставить не в центре, не среди ампирных зданий и императорских памятников, а ближе к рабочим окраинам, к Ленинграду (на площади у Финляндского вокзала). Москва с прежними памятниками обращается более непринужденно: так года два назад, старые москвичи с изумлением увидели, что памятник Минину и Пожарскому переселился с своего места, поближе к собору Василия Блаженного. В новых своих постоянных монументах Москва предпочитает, как и в новых домах, «геометрический стиль» (белый обелиск в Александровском саду, серый на бывшей Скобелевской площади). К сожалению, пока среди новых памятников ни в Москве, ни в Петербурге нет ни одного, который возвышался бы над средним уровнем, медный голос которого звучал бы с силой хотя бы отдаленно приближающейся к силе петербургского «Медного Всадника».