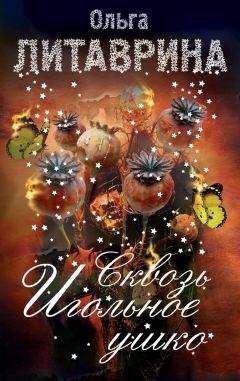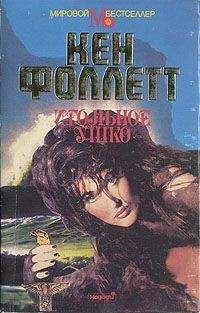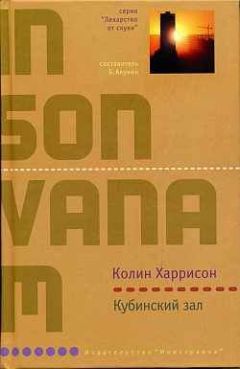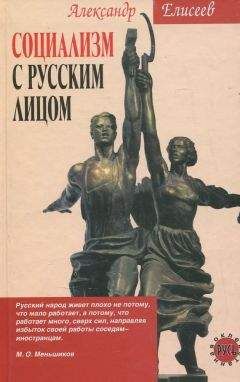Владислав Бачинин - Петербург-Москва-Петушки, или Записки из подполья как русский философский жанр

Обзор книги Владислав Бачинин - Петербург-Москва-Петушки, или Записки из подполья как русский философский жанр
Бачинин Владислав
Петербург-Москва-Петушки, или 'Записки из подполья' как русский философский жанр
Владислав БАЧИНИН,
доктор социологических наук,
профессор Санкт-Петербургского университета МВД РФ
Петербург-Москва-Петушки,
или
"Записки из подполья" как русский философский жанр
"Записки из подполья" Ф. Достоевского - одно из наиболее характерных порождений петербургской культуры. Более того, это, пожалуй, одно из ключевых ее творений. Подобно двуликому Янусу, оно одной своей стороной устремлено в классическое прошлое, с которым расстается без каких-либо сожалений, а другой - в будущее, в которое вглядывается без восторга и которое позднее будет названо модерном, авангардом. "Записки" - это одновременно и "сумма классики" и пролегомены к модерну, т.е. и постклассика, и протомодерн в одно и то же время.
Вглядываясь в "далекое-близкое" отечественной культуры, можно, пожалуй, констатировать, что русский литературно-философский модерн открылся "Записками из подполья" (1864), а начал закрываться "Москвой-Петушками" (1969). Повесть В. Ерофеева оказалась не просто "очень своевременной книгой", но книгой, своевременность которой по прошествии вот уже более чем тридцати лет тихого угасания модерна и его медленного перетекания в постмодерн не думает иссякать.
Начало метафизике отечественного модерна было положено историей безымянного Подпольного господина, который замыслил и осуществил тягчайшее из "мыслепреступлений" - убийство Бога, а завершилась историей Подпольного гражданина по имени Веничка, который воскресил в себе Бога, успевшего к тому времени умереть для большинства его сограждан. Несмотря на временной разрыв в сто лет, обе новеллы при всей внешней несхожести, удивительно близки по духу. Их сближает не только то, что обе они автопортретны, исповедальны. Важно другое: в обеих предстает история русского самосознания в его по-веберовски "идеально-типических" и по-русски "заголенно-обнаженных" вариантах. Обе чрезвычайно плотно насыщены метафизической символикой. Но самое главное - их жанровое сходство. В обеих присутствует и доминирует метафизическая реальность подполья, позволяющая определять их жанр именно как записки из подполья, т.е. как своеобразные авторепортажи из темных, подвальных глубин русской души, из бездонного "колодца" страждущего человеческого "я". Одновременно читатель "записок" слышит голоса, раздающиеся из глубинных бессознательно-сознательных слоев того культурного мира, того габитуса, в который погружены как авторы новелл, так и их герои. Различаются же эти два художественно-философских этюда, прежде всего тем, что пребывают они в двух весьма несхожих точках хронотопа. "Записки из подполья" Достоевского - это репортаж из Петербурга, исповедь человека петербургской культуры. Поэма Ерофеева -репортаж из Москвы и прилегающих к ней пространств, т.е. исповедь человека, погруженного в иной культурный контекст, заметно отличающийся от того, который был принадлежностью России столетием раньше.
Достоевский - это прощание с классикой. Его Подпольный господин предстает философом протомодерна, кем-то вроде русского Заратустры, пророчествующего из зоны бифуркации о грядущем "недочеловеке" с неблагородной и насмешливой физиономией, приготовившимся столкнуть ногой в бездну все святыни, решившим приговорить к высшей мере все классические модели мироздания, все традиционные стереотипы мироотношения, основанные на принципах христианства, духовности, рационализма, человеколюбия и т.д. В глазах Подпольного господина сущее утратило свою законосообразность, рухнули былые абсолюты, исчезли устойчивые ценностные координаты, и реальность предстала в образе разверзшейся бездны или, как сказал бы Гегель, "бездонной глубины, в которой исчезла всякая опора и субстанция". Противостоять тому, что уже свершилось, бессмысленно, ибо образ бездны и хаоса успел запечатлеться в каждой капле, в каждом атоме сущего.
В записках Подпольного господина, которые тот по своей воле превратил в "исправительное наказание", главной жертвой, призвавшей на себя все возможные кары, оказывается его собственное "я". Будучи и так уже "разорванным", оно подвергается на глазах читателя-свидетеля экзистенциально-морального суицида настоящему саморастерзанию. Единственное, что спасает Подпольного господина от погружения в состояние полного хаоса абсолютной разорванности-растерзанности, это страсть к диалектике парадоксов. Внутреннее "я" не рассыпается в нечто хаотическое из-за того, что повсюду его пронизывают смысловые нити или, скорее, "пружины" контроверз-антиномий. Они-то и выполняют роль, хотя и зыбких, но пока еще достаточно прочных несущих конструкций, и поэтому самосознание Подпольного господина предстает в виде если уж и не космоса, то еще и не хаоса, а чего-то, напоминающего некий танцующий, подобно богу Шиве, хаосмос, бешено вибрирующий, но не распадающийся.
Внутренний мир, индивидуальное "я" главного героя поэмы В. Ерофеева - это тоже хаосмос. Но в отличие от "я" Подпольного господина, движущегося от порядка к хаосу, Веничка пронизан интенцией устремленности от хаоса к порядку. "Москва-Петушки" - это уже прощание с модерном, а точнее, с той его формой, в которую он облачился в условиях советской действительности. Веничка словно говорит официальному советскому авангарду, взвалившему на себя ношу непосильной миссии и надломившемуся под ней: "Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай...".
Модерн, некогда агрессивно ворвавшийся в русскую культуру и начавший разрушать привязанности культурного сознания к классике, обрывать нити, связующие настоящее с прошлым, сметать со своего пути всякие нормативные ограничения, расчистил путь, открыл "дорогу в никуда". И неизвестно, во что бы он превратился в конечном счете, если бы не нашел для себя целевую причину известного политико-идеологического свойства. Под ее воздействием существенно видоизменилась конфигурация его ценностно-смыслового пространства. Регрессивность хаотичного, расхристанного модерна трансформировалась в трансгрессивность целеустремленного, энергичного, пронизанного политической энтелехией авангарда. Своеобычный "антипассеизм" модерна, проявляющийся в его стремлении "отвязаться" от прошлого, оттолкнуться от известного, превратился в футуризм как способность "бежать впереди прогресса", подстегиваемую жаждой нового, неизведанного, верой в какие-то невиданные чудесные перемены, ожидающие человечество за горизонтом. Деструкция классики, порождавшая невольную полемику с ней, обратилась в трансгрессию, грезящую только о будущем, пронизанную готовностью ради ускорения исторического бега заложить душу самому дьяволу. Дьяволодицея, имевшая до этого в культуре преимущественно антропологическую окраску, начала обретать макросоциальные масштабы и отчетливое социологическое измерение и звучание.
Авангардизм обнаружил себя в двух основных формах. Поначалу он возник стихийно, как результат вдохновенных исканий культурного сознания, и это была распахнутая вовне, открытая система идей и принципов. Но с возникновением советской государственности и утверждением ее идеологии авангард был привлечен к участию в нововавилонском столпотворении. Выйдя из зоны бифуркации, вчерашний бесформенный модерн оказался подчинен уже не играм и капризам случайностей, а логике пребывания во власти жесткого аттрактора. Подчиненный конкретным идеологемам, оказавшийся во власти политизированной необходимости, он стал превращаться в систему принципов, тяготеющих ко все большей закрытости.
"Москва-Петушки" явились миру, когда стрела официального советского авангарда, так и не долетев до цели, обессилев, растратив в движении всю энергию, стала падать, безобразно кувыркаясь. Вид этой социальной и духовной агонии не мог вызвать у Венички никаких иных реакций, кроме отвращения и тошноты, как после коктейля "Сучий потрох", или сардонического смеха, переходящего в получасовую икоту.
"Москва-Петушки" с Веничкой Ерофеевым, обреченным всю жизнь существовать среди жертв антропологической катастрофы - социальных мутантов, "недочеловеков" с неблагородными физиономиями, - это "сумма модерна", "сумма авангарда", общий неутешительный итог итогов, безотрадное отрицание отрицания, погружение в бездну "самого дерьмового ада", где "утром - стон, вечером плач, а ночью скрежет зубовный".
Многое роднит Веничку с Подпольным господином, но много между ними и различий. Подпольный господин преисполнен тотального нигилизма. Ему никого и ничего не жаль - ни Бога, ни Божьего мира, ни людей, ни самого себя. Столь мощному и всеобъемлющему деструктивизму явившегося миру раннего модерниста есть, по меньшей мере, два объяснения. Первое - это то, что модернизму предстояли невиданные разрушения в культурной вселенной. И те, кто должен был осуществить эту грандиозную миссию, нуждались не только в мелких бесах, но и могучих демонах разрушения. Подпольный господин оказался в этом отношении весьма многозначной и даже символической фигурой. Внешне похожий на мелкого, довольно ничтожного беса, он, однако, нес в себе гигантский потенциал темного демонизма. Второе объяснение столь безрадостной и сумрачной духовной судьбы мелкого петербургского чиновника - это то, что у него не было в душе своих "Петушков" с вечно цветущим жасмином и никогда не смолкающим птичьим пением. Лишенная внутреннего оазиса тепла и естественности, его душа ожесточилась, одичала и постепенно оказалась в полной власти мрачных демонов тотального отрицания.