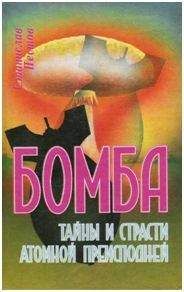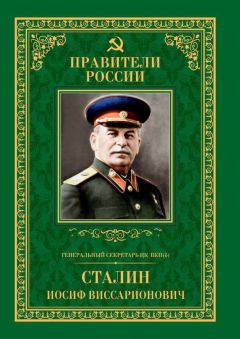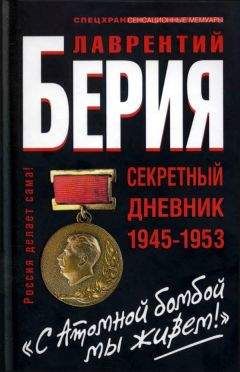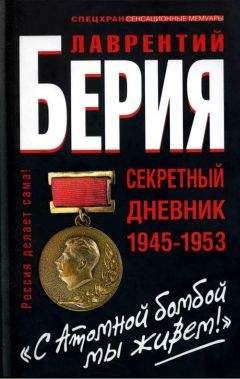Эдик Штейнберг - Материалы биографии
В московской мастерской Эдика Штейнберга, “намоленной” художником в течение многих лет, я обретаюсь теперь. Открываю настежь невидимые окна – и впускаю к себе все, что было и будет, – и на чистых холстах проступают следы моей судьбы. Неизменное чувство благодарности я простираю к тем, кто видел и видит во мне не только дурное…»
(Фрагмент из «Автобиографии», 2007 г.)
ПИСЬМО ЭДИКУ
Дорогой Эдик!
Вот уже много месяцев назад ты нас покинул, отправившись в путешествие, из которого не возвращаются так просто. Во всяком случае, не обычным способом! Нам тебя не хватает. Мне тебя не хватает.
Я так хорошо помню твою восхитительную улыбку, которая сияла на твоем лице за несколько дней до твоего ухода и которая была как подарок небесный. Твоя улыбка, эта улыбка преследует меня до сих пор и днем и ночью. Забыть ее невозможно!
Это просто невероятно, насколько она, твоя улыбка, являлась душой твоих картин и гуашей, их мотором и движущей силой.
О! Она, твоя улыбка, сдержанна, вне всякого сомнения, в своей прозрачной ясности, она – своего рода ловушка за линиями и геометрическими фигурами. Она – избыточная правда, которая придавала твоим работам, всегда волнующим, бесконечно трогательным и сияющим, даже в красно-черном варианте, ауру, достойную тебя. Ауру, принадлежащую тебе, и только тебе.
Пути развития геометрического искусства, которое называют иногда искусством построения, разнообразны и слишком часто заимствуются и переходят от одного мастера к другому. Но это не твой случай. Я думаю, это просто: форма для тебя являлась только крайним средством, необходимым, конечно, но подспорьем главному. Твое основное содержание, неотделимое от твоей сущности, от твоей души, это и была, собственно, душа, которую ты вкладывал в каждый твой графический эпюр (эскиз). Твоя рука, которая так владела пером, как будто бы ее сжимала другая рука с горячностью, любовью или дружеским расположением.
Я познакомился с тобой когда-то во времена перестройки, в 1988 году, благодаря полученному заказу на книгу о советском искусстве времен неподчинения указам социалистического реализма. Я помню, как, к своему стыду, я не обратил должного внимания на твои совершенно уникальные, неоценимые и бесконечно единственные в своем роде способности. По своей ограниченности и неопытности, я быстро уподобил их широко распространенному конструктивизму времен Малевича. Конечно, истоки твоего творчества черпаны в мэтре супрематизма, но тогда я совершенно не представлял, насколько ты его уже превзошел в способностях.
Когда пришло время, ты соединил непреклонную твердость мэтра, которому ты хранил до известной поры верность, с невероятным, но весьма очевидным благорасположением линиям и окружностям. Ты их прочерчивал уверенной, но прежде всего живой человеческой рукой.
Другие времена – другие нравы. Тебя сформировало время, которое уже тогда умело давать отпор навязываемым правилам игры, но ты умел и в те времена подтвердить те связи, которые объединяли тебя с отцами-основателями русского авангарда. Сын художника, ты знал, на кого равняться.
Природы решительной и откровенной, ты умел жить. Твоя жизнь была похожа не на мирное и тихое течение реки, но на приключение, не всегда прогнозируемое и управляемое, когда законы общества стесняли твою собственную свободу и возможность быть художником в душе и по убеждениям.
Я с волнением и восхищением вспоминаю твои ретроспективные выставки в Германии, в частности. Твоя долгая карьера художника говорит сама за себя в большей степени, чем слова, в которых мы можем о ней говорить.
Абстракция – мир, в котором ты был царем, богом. Круги и квадраты мирно существовали в образах на твоих картинах. Образы стилизованные, в полном соответствии с гармоничной игрой линий. Образы мужчин и женщин твоего городка Тарусы, в который ты с восторгом возвращался каждое лето. С ними ты выпивал пол-литра, смеялся и, может, играл в шахматы. Цвет и форма картин – выражение твоей им признательности.
Цвет и форма твоего внутреннего мира, развивающиеся не впрямую, были твоей судьбой и уделом многие годы. Тебя не стало роковым днем в прошлом году, но, поверь мне, восхищение не иссякло. Созерцание твоих картин доставляет мне удвоенное наслаждение, греет мне сердце и дух. Так же как и душу. Я чувствую себя в огромной гармонии и согласии с символами твоих картин, звездами рая, связь с которым, благодаря тебе, мы никогда не утеряем.
Эдик, родной! Я великолепно помню Пасху, которую мы отметили вместе в православной церкви на улице Дефре, в Брюсселе. Галя и Тамара там были тоже. Мы зажгли свечи и в едином порыве обошли церковь, держа свечи в руках.
Твои картины были, есть и будут тем самым незабываемым светом. Ты был восхитительным «фонарщиком», возжигателем света. Благодарю тебя за столь грандиозный подарок.
Живопись и искусство незаменимы в жизни человека. Ты совсем не случайно был с ними связан всей своей жизнью, светом на картинах или на бумаге.
Как нам отныне сохранить свет, невероятно огромный и одновременно скромный и сдержанный. Свет этот озаряет жизнь твоих друзей. Поверь мне, мы за тебя несем ответственность перед будущими временами, весьма печальными без тебя. Если бы не твои картины!
Обнимаю тебя, мой дорогой Эдик! Будь по крайней мере счастлив на принявших тебя небесах.
Роже-Пьер ТюринБрюссель, 15 июля 2013 г.Перевод Натальи Смирновой
ЭДИК ШТЕЙНБЕРГ
Моим большим счастьем и привилегией было знать Эдика Штейнберга как художника и как человека. Мало кто на Западе представлял себе, насколько трудно было художникам, «диссидентам» и «неформалам», продолжать дело своей жизни. Они не могли выставлять свои работы в музеях и галереях. Зачастую у них не было кистей, красок и холстов надлежащего качества. Если хотите, они просто-напросто выживали, не имея приличного заработка, жертвуя при этом многим. Тем не менее, вопреки тяжелым испытаниям и лишениям, они добивались своего настойчиво и упорно 30 лет, рисуя то, что они считали необходимым рисовать, от абстракции до религиозных тем, до обнаженных фигур. Они доходили до полного отрицания советской системы. И все это при полнейшем небрежении и демонстративном неповиновении официальным «блюстителям порядка от культуры». Невероятно, но крах советского полицейского государства и тот факт, что они сумели вопреки всему выжить, позволил течению авангарда не только процветать, но и стать уважаемым в своей собственной стране. Для меня лично их из ряда вон выходящая, яркая история является примером триумфа человеческой воли.
Являясь членом группы этих художников, Штейнберг стоит особняком как один из самых талантливых. Репутацией своей он в не меньшей степени обязан не только художественным заслугам, но и собственной политической смелости.
Штейнберг вместе с двумя-тремя другими художниками умудрились сделать нечто более важное – создать свой собственный, присущий только им художественный язык, сохраняемый десятилетиями. Короче говоря, как художник Штейнберг был одним из величайших мастеров Советского Союза со времен Второй мировой войны.
По сути своей Штейнберг был абсолютно русским человеком, в лучшем понимании этого слова. Он любил богатую культуру, неподвластную времени красоту провинции, щедрость простых людей – все, из чего и состоит для него Вечная Россия. В нем не было ни грана напыщенности, противоречивости в поступках или бессердечия, так характерных для советской эры. Кусочком райского блаженства стала для него Таруса, отнюдь не Москва. Мы это ясно видим в его живописных работах.
В Париже Штейнберг жил половину года, удивляясь Западу, его комфортной жизни, но никогда не переставая ощущать себя никем, кроме русского. Французский язык он так и не выучил. Ему это было не нужно. При этом его бесконечная потрясающая улыбка, жесты, хорошее настроение помогали понимать его без слов. Он был человеком мира. Творить он мог везде. При этом он всегда говорил, что, если ситуация в Москве изменится и ему придется насильно выбирать между Москвой и Западом, он, конечно же, вернется к корням.
Он так и поступил. Его похоронили в Тарусе, которую он любил больше всего.
Фред Кольман,бывший руководитель Московского отдела NewsweekПариж, май 2013 г.Перевод Натальи Смирновой
НЕ ЗАДАННЫЕ ЭДИКУ ВОПРОСЫ
Мой муж и я познакомились с Эдиком и Галиной лет двадцать назад. Мы не говорили по-русски, а Эдик говорил, что не понимает французского языка. Мы целиком зависели от Галиного перевода. Тем не менее у нас сложилось полное впечатление, что с Эдиком мы понимаем друг друга вне языковой оболочки, вне Галиных переводов. Все это потому, что Эдик обладал даром общения, на который странным образом не обращаешь внимания, когда ты существуешь в звуках языка. И если талант мима проявляется на театральной сцене, то его талант проявляется в выражении лица, на котором были и любопытство, и волнение, и радость. Эдик всегда прибегал к русскому языку, произнося на нем хоть несколько слов, полагая, что все на нем говорят. Он считал естественным знание нами русского языка. Он обожал, например, слово «катастрофа», сопровождаемое определенной мимикой и часто им употребляемое, которое одинаково звучало и для него, и для нас. Слово это было связано для него в речи с искусством или политикой. Именно это позволяло нам думать, что зона взаимного понимания лежит за рамками чистого перевода как такового.