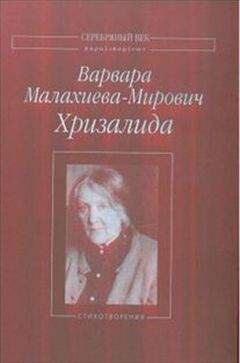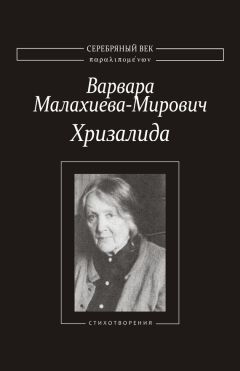Варвара Малахиева-Мирович - Маятник жизни моей… 1930–1954
Студент, темно-кудрявый поляк, революционер и красавец. Никаких надежд на брак или роман. Мечты погибнуть “на одном эшафоте”. Жестокая уязвленность сердца, когда избранник его предпочел мечтам со мною об эшафоте связь с красивой вдовой двадцати восьми лет, не предъявлявшей к нему никаких требований, кроме общего ложа.
В 19 лет влюбленный в сорокалетнюю мою тетку[34] (женщину замечательной красоты), замечательно некрасивый, декадентствующий разорившийся аристократик, принужденный служить на железной дороге. Пел отрывки из всех опер, читал стихи, говорил о бессмысленности жизни. Показался возвышенным, непонятым, гонимым Роком. Свежесть молодости моей привлекла его, но не настолько, чтобы отойти от тетки. Да и я сама считала бы это несчастьем, так как очень любила тетку и гордилась тем, что была поверенной в этом романе.
Здесь, как и в первом случае, – ни одного лишнего рукопожатия, ни одного поцелуя руки.
В 22 года – опять красавец, доктор, психиатр (лечил меня от нервного расстройства после напряженной партийной работы). Четыре года безмолвных и безнадежных пламенных томлений – красавец был женат, вообще даже не догадывался о моей драме, пока в конце четырехлетия я не решилась спросить его, любит ли он меня. Некоторые данные у меня были для этого вопроса – взволнованная радость его при наших редких встречах, особый блеск глаз, та улыбка, что была у Вронского, выражение покорной собаки. Ответ на письма мне был уклончив, туманен: такой-то любовью люблю, такой-то нет, но такой и вообще никого не люблю.
Тут мне представился случай поехать за границу и через полтора года – опять “красавец”, впоследствии общероссийский известный революционный деятель. Опять женатый. Опять полуответ. Три года жизни и неудавшаяся попытка уйти из нее.
Потом доктор Лавров, самое неподходящее для какого бы то ни было романа лицо, но этим и привлекавшее мой подсознательный поиск трагического и неразрешимого в этой области. Четыре года брачной связи в унизительных для меня условиях. Больной, злой, переутомленный, ультрапрактический человек с закулисной женой, от меня скрываемой, и четырьмя детьми. Так я говорю о нем теперь. Тогда же шляпа его и калоши казались мне окруженными особым нимбом его сияния, и сам он был полубогом.
Мы расстались, измучив друг друга до психического расстройства.
Затем – почти мальчик и с ним десять лет все крепнувшей и прораставшей в религиозную область связанности. Тут его срыв и (теперь для меня непонятное) трагическое восприятие мое этого срыва. Впрочем, это все оттуда же: “Но я слабей любить не мог…”
Пропустила встречу, может быть, более важную, чем все остальные. Лев Шестов, его любовь, мой полуответ и через несколько лет – два месяца ответа без слов, но когда каждое слово, каждый вздох уже ответ. Здесь от начала до настоящей минуты, хотя мы разлучены уже 10 лет, глубинная унисонность, глубинное доверие друг к другу и взаимное, обновляющее, окрыляющее дуновение при встречах.
Если бы я могла выбирать, с кем из этих людей хотела бы я встретиться в будущих жизнях, я назвала бы одного Льва Шестова. А может быть, и его бы не назвала. И может быть, чуяли это красавцы и некрасивые, юные и пожилые. И пугались. Или утомлялись. Или расхолаживались.
И любил меня по-настоящему только один из тех, кого и я любила. Но тянулось ко мне в свое время много мужских душ. А может быть, просто – мужские вожделения.
4 ноября. Москва, Красные воротаКрасные и желтые огни трамваев в безритменном хороводе кружатся по тесной площади. Один за другим несутся и перекрещиваются автомобили, развертывая перед собой длинные веера зеленоватого света. Глухой гул, приглушенные гудки сирен и железный лязг колес врывается в мои окна день и ночь. Город. Ожесточенная погоня за куском хлеба, за ржавой селедкой – “де б его достать, щоб его зъисты”. И рабий страх. Таков обыватель, четвертая, и пятая, и шестая категория. Комсомол, рабочие – “первая категория” – по-иному ощущают себя. У худших – “торжество победителей” в очень вульгарной форме. У лучших – энтузиазм строителей Новой жизни. У середины – стадность и спокойствие обеспеченного завтрашнего дня.
16 декабряМой отец[35] – крестьянин Псковской губернии, потом рабочий-металлист серебряного цеха. Душа, скитавшаяся по свету между отшельничеством и миром. Нас, детей, и мать нашу любил, но не мог с нами жить, не вынося той суеты, какой полна всякая семья. Приезжал к нам раз в год, гостил недолго. Никогда больше месяца. Мы обожали его, особенно я. Тут уж был, пожалуй, эдиповский комплекс. Помню отчетливо до сих пор сладостное волнение от его голоса, глаз, от каждой его ласки, всю заливающую радость от его писем, от его приездов, бурное горе, растерянность, сердечную боль после его отъезда и некоторую ревнивость к матери. Никогда (с 8 лет и до 16, когда отец умер) не давала ей читать его писем ко мне.
Приезд отца – самое лучезарное воспоминание детства. Почти всегда неожиданный, почти всегда ночью. Громкий стук в ворота, наши крики: папа приехал! Праздничная ночь без сна. Необыкновенные подарки – бочонок вина (с Кавказа), гранаты, виноград, 4 пары калош, которые никому не годились, какие-то с треском захлопывающиеся табакерки, голубые бусы, янтарь. Дамская шляпа, белая шляпа с розовыми цветами – мне. У нас в сарае был целый сундук с коллекцией лампад, старинных церковных книг. И на стенах нашего бедного жилья были развешаны великолепные гравюры Рафаэля, Винчи – все подарки отца.
Отец покупал попутно много ненужных вещей, особенно любил старинные вещи, но они были ему не нужны. А сам жил где-то в землянках или, селясь часто поближе к монастырю, в монастырских кельях, и для себя ему было ничего не нужно, кроме, может быть, момента покупки и момента дарения.
Перед смертью он писал матери из Батума: “Не в сонном видении, а наяву, на берегу моря, я видел «новое небо и новую землю»”. Думаю, что от этого видения было так прекрасно и так блаженно его лицо в гробу.
В 1918 году в Киеве я увидела случайно на вокзале старого крестьянина с лицом, до того напоминающим отца, что я не могла пройти мимо. Он оказался тоже из Псковской губернии, приехал на заработки. Почему в Киев? Потому что “святые места, а дома есть нечего”. Я привела его к друзьям, у которых жила. Мы старались как-нибудь создать ему “заработки”. Они были грошовые и утомительные – перемывать посуду в лазаретном буфете. А самое грустное – что-то легкомысленное в тоне этого старика, в его наивной хитреце стало меня раздражать, и я охладела к нему. И он почуял это и скрылся с моих горизонтов, но не с горизонтов моей совести. Ах, “на совести усталой много зла”[36].
2 тетрадь
28.2–3.9.1931
Когда я берусь лечить кого-нибудь из близких “массажем астрального тела” – это, конечно, тоже вмешательство в их судьбы, но это единственная форма вмешательства, на какую я смею решиться. И это мне дано, это не мое. Я тут орудие. Сознание моей недостойности этого дара мешает мне последние годы лечить так часто и так успешно, как я осмеливалась это делать раньше.
Раньше, когда приближением руки к чьей-нибудь голове я останавливала зубную боль или жестокую мигрень (в некоторых случаях мигрень совсем излечивалась), во мне не звучал этот вопрос, какой подымается в последние годы: кто ты, смеющий лечить наложением рук, как лечили святые люди?
Музыка – “Поэма экстаза” Скрябина, дирижер Коутс[37]. Что творилось с душой – не расскажешь, не разгадаешь. Только до жуткости странно было идти домой, делать тот же обиход жизни. Как “Крейцерова соната”, по мнению Толстого, довела жену Позднышева до измены, так “Поэма экстаза” доводит слушающих до необходимости какого-то внутреннего делания. В горделивом безумии Скрябина, в его мечте музыкой совершить чудо рождения нового мира и нового человека есть зерно каких-то возможностей. Не через его музыку, не на этом свете, не теперь, но, может быть, нечто подобное совершится когда-нибудь (для каждого из нас).
…И вернулись все в свои норы, забились в свои тараканьи щели. Обед, разговоры, трамваи. Вот судьба и послала музыку сфер.
1 мартаЗависимость от времен года, от часов дня и ночи, от того, какое небо, какое освещение, какова погода. Не надо бы ее, этой зависимости, но она есть. Есть печаль предвесенних и весенних сумерек. В ней нечто люциферическое. (“Он был похож на вечер ясный – ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет”[38]). Есть уют осеннего дождя и ветра, если в комнате тепло и светло. Но если силен ветер и даже подвывает в трубе, тут уже “страшные” песни “про древний хаос про родимый”[39]. Летом, когда только восходит солнце, и в саду еще не высохла роса, и вершины деревьев в звездных алмазах, есть “первое утро мира”. Меланхолия туманной погоды. Предрассветное томление, когда из нарастающей тоски зарождается пифагорейский гимн солнцу[40]. Романтика лунных пространств. И над всем – звездное небо – воспоминание, напоминание, обетование, залог. Забыла снег. Детская радость первого снега. Величие бесстрастной мысли в снеговых равнинах, горные вершины – престолы серафической чистоты.