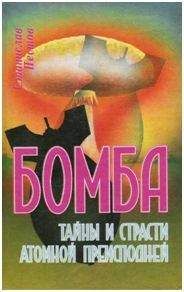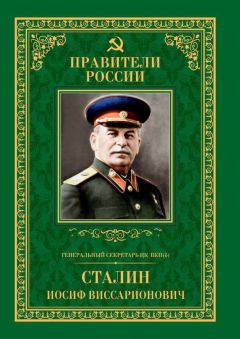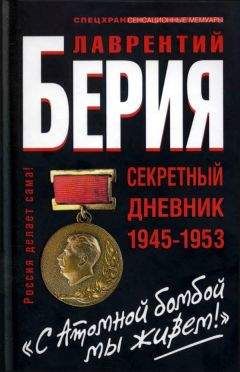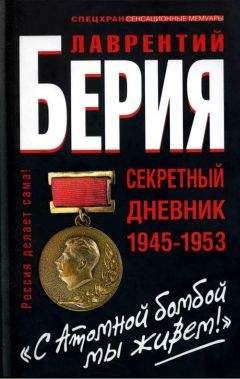Эдик Штейнберг - Материалы биографии
В Москву мы улетели с Жилем на следующее утро. В квартире в Москве нас встретил Витя Дзядко, купил нам что-то для вечерней трапезы, а затем предложил Жилю пойти переночевать у него, не желая меня обременять заботами. Я забыла сказать, что Леня Бажанов предлагал мне по телефону из Москвы какую-то помощь от ГЦСИ, но я согласилась на помощь, которую мне предложил коллекционер Эдика Иосиф Бадалов. Утром ко мне приехала молодая женщина из Московского бюро ритуальных услуг, она привезла мне букеты красивых белых роз, закупленных мною у нее по телефону, и привезла мне образцы венков, которые будут затем привезены на кладбище в Тарусу. Она и доставила нас с Жилем в церковь Святителя Николая, где меня уже ждали Леночка, Володя, Миша, должные последовать с нами в Тарусу. В Тарусу с нами изъявили желание последовать Витя Дзядко, Гарик Кретников и Ира Заенчик, а калужская семья Эдика должна была нас ждать в Тарусе.
Храм в Толмачах, где некогда отпевали Сергея Третьякова, оказался огромным. Вначале, кроме нас, Веры Лашковой, Володи Немухина и Бориса Фридмана, в храме никого не было. Я даже немного испугалась своего дерзкого желания отпевать здесь Эдика. А потом, подойдя к гробу и увидев его открытым и снова встретившись с таким десятилетиями знакомым и совсем обновленным выражением лица Эдика, я сосредоточенно смотрела на него. Мне опять показалось, что погруженность в новое, ранее реально неведомое, но духовно мыслимое бытие еще продолжается. Я увидела Ларису Шифферс, Платона и Ольгу Ивановну Обухову, Лидию Ивановну Иовлеву, племянников Эдика и даже не заметила, как за моей спиной толпа народа возрастала. Ко мне кто-то подходил, но, надо признаться, что при том, что я стала плохо видеть, я многих не вспомнила и не узнала, и этим людям приношу свое извинение. Отпевание в храме было завораживающим, и мне показалось, что оно свершилось в одно мгновение, что, не успев начаться, началась церемония прощания. Люди подходили к гробу, и я мало кого узнавала в лицо. Позднее от своих знакомых я узнала, что был и тот, и этот, и многие-многие. Снимал телевизионный канал «Культура», и многим, в том числе и мне, предложили высказаться. Разумеется, я отказалась, так как не в состоянии была говорить, отказался и Володя Башлыков, отказался и Женя Барабанов, который, оказывается, перенес тяжелейший инфаркт и тяжелейшую операцию на сердце и еще далеко не оправился от своей болезни. Люда Барабанова мне принесла конвертик, в котором лежал надгробный светильник и книжечка по руководству свершаемых при погребении ритуалов и чтению заупокойных кафизм. Надо сказать, что этот день отпевания был серым, дождливым и слякотным. В голове мерещились мрачные, унылые картины заснеженного тарусского кладбища и заваленные снегом и грязью могилы. Гроб из церкви Святителя Николая мы должны были везти в собор Петра и Павла в Тарусе, где он должен был простоять ночь, а затем, после последней панихиды, последовать на кладбище, на котором лежат друзья родителей Эдика и друзья его юности, да и те, с кем в последние годы его жизни свела его судьба.
В катафалке вместе с гробом поехали мы с Жилем, Леночка с Володей, Витя Дзядко, Гарик Каретников, Ира Заенчик и чета Поповых – Игорь и Ольга. Миша с Митей сказали, что последуют за нами своим ходом на машине. Гроб с цветами, принесенными в церковь Святителя Николая, принесли и поставили в соборе. Мною заказанные венки обещали привезти завтра на кладбище. У собора Петра и Павла нас встретили Женя и Витя, они то ли с утра, то ли со вчерашнего вечера находились в Тарусе и протопили мастерскую Эдика. Оставив Эдика одного ночевать в храме, мы в том же составе, кроме Поповых, которые побрели к себе, отправились в наш дом, где мы с Эдиком вместе прожили почти восемь месяцев 2011 года. Может быть, этот последний его срок и был самым длительным пребыванием его в этом доме в Тарусе. Будучи в Париже, он мне говорил, что он поехал в Париж только из-за меня, так как уже понимал, что мне самой не под силу справиться с его болезнью, а ложиться в тарусскую больницу он не хотел. Последние три месяца постоянных бессонных ночей были практически для него невыносимы, ибо он задыхался, находясь в горизонтальном положении, а сидя он не мог заснуть, только крайне редко вдруг засыпал от патологической усталости. Я, разумеется, все эти ночи бодрствовала вместе с ним, перемещая его то на кровать, то на диван, то усаживая, то укладывая, порою та или иная поза вдруг оказывалась удачной, и он на час или на два засыпал, обнимая кота Шустрика, который в одночасье, где-то в сентябре месяце прибился к нам и не желал уходить. Эдик, памятуя замечательную повесть Гоголя «Старосветские помещики», связывал приход в наш дом этого странного, умного, свободолюбивого кота со своим уходом из жизни. Даже находясь под капельницей и дыхательными аппаратами в парижском госпитале, он всякий раз спрашивал меня: «Ты звонила Ире, жив ли кот?» Находясь в своей комнате, иногда пытаясь читать, говорил мне слова, которые даже неловко повторять: «Ты даже не знаешь, как я тебя люблю и как ты сможешь жить без меня», видимо, я и живу в мире потому, что многое вокруг меня он сумел окрасить своей любовью. Но в тот вечер, когда я вошла в наш тарусский дом без него, мне было совсем не по себе, ибо в Тарусе я практически никогда не жила без него, притом что весь интерьер дома был создан мною, но как бы камень, остов, на котором он стоял и стоит, – это Эдик. Три месяца назад он был здесь, почти не дышал, но какими-то нечеловеческими усилиями заставлял себя идти в другой дом в мастерскую, топить печь и делать попытку продолжать работу.
Большую гуашь с густой зеленью на черном фоне (а ведь зеленый цвет – это цвет жизни) он вел на протяжении последних трех месяцев и как бы не закончил ее по его ведомым только ему понятиям о совершенстве, ибо для любого постороннего глаза она образец законченности, только без его подписи.
Я думаю, что эти оставшиеся и в тарусских гуашах, и в парижских картинах ведомые только ему следы незавершенности говорят о его постоянном присутствии здесь, среди нас. С ним люди, его друзья продолжают советоваться и разговаривать и думать, что бы он сказал и как поступил. О себе я не говорю, когда мне говорят: «Ну, как ты? Немного отошла?» От него, от своей жизни? Мне некуда отходить – я с ним.
В доме было чисто, но как-то мертво. Мы сели за стол в комнате, я вспомнила, в первый год нашей жизни в Тарусе отмечали его рождение в этой комнате и сидели за этим талашкинским столом. Это, видимо, был 1989-й. Все было еще не устроено, пришли Шеметовы, Молодцовы, очень малосимпатичные люди, у которых мы купили этот дом, и наши новые соседи, Юлик и Валентина Павловна. Это, по-моему, был один из тех малоприятных дней из нашей совместной жизни, и теперь именно за этим столом мы поминали его. Среди свидетелей того периода среди нас были моя сестра Леночка и наш друг Гарик. За эти годы кардинально поменялась жизнь и моей сестры, и Гарика Каретникова, а наша совместная жизнь с Эдиком в те годы, тоже ставшая напряженной, сравнительно быстро выпрямившаяся, видимо, с Божьей помощью, по-новому расцветившаяся, подошла к иному рубежу. Так я вспоминала свое, а Гарик вспоминал, как Эдик помог ему в самый сложный период его жизни, когда он остался без работы, а Витя Дзядко вспоминал, как Эдик им помог, когда их с его женой Зоей стали все чураться и бояться, когда на сей раз арестовали Феликса, после того как мать Зои, Зоя Крахмальникова, известный религиозный диссидент, кажется, уже три года находилась в ссылке в Алтайском крае. Именно Эдик организовал встречу Вити со своим другом, немецким корреспондентом Бернхардом Кюпперсом, этот наш друг и сообщил на Запад об аресте Феликса. Теперь Свет так же, как и Зоя, был включен в список тех, за освобождение которых боролся Запад. Дети Эдика организовали вкусный домашний стол, люди ели, что-то говорили, разумеется, об Эдике, что я совсем не запомнила, ибо жила в предвкушении последнего «целования», которое у нас по причине длительного путешествия гроба из Парижа в Тарусу свершается не на третий день, как положено по канону, а на девятый – день последнего земного расставания с душой покойного. Я помню, что немного позднее нас приехали Миша с Митей и что Жиль был поражен семейным сходством моей сестры с ее сыном и внуком. Помню, что после трапезы Жиль, Гарик, Ира Заенчик и Витя поехали в гостиницу, так как спальных мест для всех в наших домах не хватило. Любимый кот Эдика, кажется, нас не встретил. Помимо горя, которое, разумеется, и до сих пор не покидает меня и, думаю, только вместе со мной уйдет в землю, я не знала, как пройдет панихида. Обида на отца Леонида, который за наше пребывание в Тарусе не нашел времени причастить Эдика, никак не оставляла меня. Ночь была тяжелой, но обрадовало утро. Вместе со световым днем пришел и солнечный свет на Тарусскую землю. Дождь со снегом, видимо, прекратились ночью, утром забрезжило голубое небо. Мы подъехали к церкви, когда, ко всеобщему удивлению, на дворе стояла весна, и мне вспомнилось, что именно в это время года, когда молодой Эдик еще писал пейзажи с натуры, он отправлялся в Тарусу. После тяжелой, холодной зимы на земле появлялись проталины, начиналось пробуждение природы. На следующий день его и нас ждала Лазарева суббота, ибо в этом году Пасха тоже была ранняя, храм был в преддверии Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, а затем готовился к Страстной седмице. При взгляде на Оку вспоминались ранние пейзажи Эдика и музыка стихотворения Бориса Пастернака «На Страстной», да и вообще поэзия «Доктора Живаго». Отец Леонид совершал сосредоточенно панихиду, в храме были почти все те, с кем нас свела судьба за последние почти два десятилетия в Тарусе. Здесь были и художники, и друзья по рыбной ловле, и люди, которые строили наши дома, и новые тарусские молодые бизнесмены, с которыми у нас завязались дружеские отношения, такие как Люда Шуклина. Именно она договорилась с тарусской администрацией о выбранном месте на кладбище и организовала всю встречу и захоронение гроба Эдика, а затем, к моему удивлению и радости, отец Леонид произнес несвойственное его темпераменту горячее слово об Эдике, а затем не менее вдохновенно начал читать кафизмы. Люди прощались, и многие плакали, в том числе и лица мужского пола. Второй раз на моих глазах гроб заколачивали. Мы вышли за гробом, потом стояли у храма и ждали сигнала для поездки на кладбище. Помню, что из храма вышел Максим Осипов и сказал, что он навестит меня. Кто ехал со мной в катафалке рядом с гробом, я совсем не помню, помню, что Наташа Верзилина хотела устроить прощальный гражданский митинг у ворот кладбища, но кто-то сказал, что надо нести гроб к могиле, а там уже сказать те слова, которые хотят промолвить люди. И гроб понесли. К моему удивлению, тропинка к могиле была очищена и проторена. Могила была вырыта хорошо и глубоко. И мы оказались рядом с могилой Саши Шуклина, мужа Люды, которому воздвигнут огромный монумент из белого камня, немного меня смутивший, ибо, памятуя наставления Эдика о его надгробии – совершенно контрастные, я немного испугалась такого монументального соседства. Затем успокоилась, понимая, что в случае моего длительного отъезда и, наконец, моей смерти могила Эдика не будет брошена. Надо только разумно осуществить идею Эдика. На кладбище я увидела многих тех, кого не заметила в церкви. Приехали из Москвы и Леня Бажанов, и Виталий Пацюков, и Зина Стародубцева, и Боря Мессерер, и Юра Смирнов, и Петя Михайлов, который привез Филю Дзядко, теперь уже известного молодого журналиста, и Ира Филатова с Таней Левицкой, женой Боруха. К моему стыду, других приехавших из Москвы на похороны не помню, но, разумеется, все меня порадовали своим присутствием. Так как Эдика пять лет назад сделали почетным гражданином Тарусы, то кто-то выступал из администрации, от тарусской общественности – Наталья Верзилина, что-то говорила Люда, а я смотрела в эту глубокую яму, стоя у ее края, и вспоминала, что именно здесь, среди берез, с видом на Таруску, где мы с Эдиком гуляли в наше первое тарусское лето, он будет одиноко лежать, развернутый к этим просторам. Народу было много, отец Леонид долго кадил на могиле, затем последовало последнее прощание с комом земли, который каждый из присутствующих опускал в могилу. Ко мне многие подходили прощаться после этого ритуального жеста, кто-то торопился в Москву, кто-то по здешним делам, но, видимо, большая половина изъявила желание пойти на поминки к Люде в ресторан «Якорь». Почему-то среди тех, кто со мной прощался, мне запомнился Андрей Боровлев. Это один из тех, кто сумел удивительно красиво сделать внутреннюю часть дома, где находилась мастерская Эдика. Он с лицом, излучающим горе, подошел ко мне и сказал: «Галина Иосифовна, если вам понадобится моя помощь, я всегда вам помогу». Об этом мне говорили многие, но я почему-то запомнила Андрея. Могилу засыпали, воздвигли холм и поставили деревянный крест. Крест оказался красивый и пропорционально вырубленный, сзади поставили мои белые венки из живых цветов. Витя Дзядко еще по дороге в Тарусу просил меня разрешить ему украсить могилу самому из принесенных живых цветов. Украшение могилы было делом кропотливым, многие не могли больше ждать. Люди из московского ритуального сервиса начали торопить, что-то раздражающее и нарушающее этот торжественно-покойный ритм начало проникать в церемонию и возвращать к вульгарности каждодневной жизни. Солнце светило ярко, но все-таки от долгого стояния чувствовалась ранневесенняя промозглость. Но Витя с абсолютно невозмутимой выдержкой продолжал украшать могилу. У могилы остались только близкие, Гарик уехал в Москву с какой-то машиной, остальные люди ждали нас в ресторане, но, когда композиция из белых и красных цветов была закончена, в ней высветлился белый восьмигранный крест. Снова наступило успокоение и последнее прощание с Эдиком-Павлом, упокоенным под крестом и увековеченным крестом с распятием.