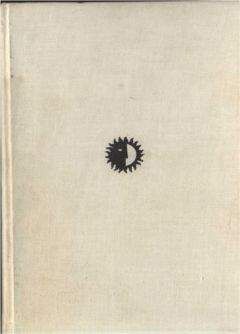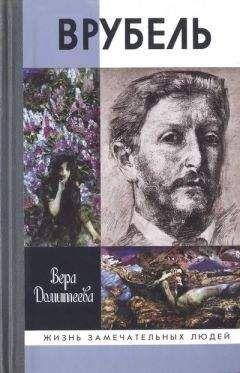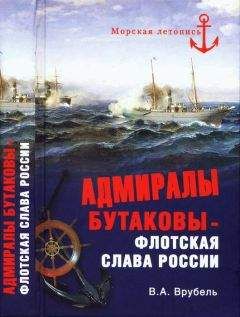Ирина Врубель-Голубкина - Разговоры в зеркале
А.Г.: В какой степени на вас повлияли восточные способы мысли и чувствования? В словах ваших постоянно присутствует оппозиция западному, иудео-христианизированному миру высказываний – самых разных, от художественных до исповедально-практических, связанных с религиозной культурой этого ареала.
П.П.: Не то чтобы оппозиция, но восточные влияния действительно были и остаются существенными, причем для всей нашей номы, тут круговое воздействие. Китайская, прежде всего, литература и философия… Для МГ, если рассмотреть этот вопрос уже не в плоскости влияний, а с точки зрения материала, с которым мы работаем, огромное значение имеет традиция китайского классического романа и, в частности, одной из матриц нашего с Сергеем Ануфриевым романа «Мифогенная любовь каст» – сейчас мы пишем второй его том – является знаменитая проза XVII века «Путешествие на Запад» У Чэн-эня.
А.Г.: А, этот гигантский четырехтомник с приключениями и волшебством…
П.П.: Он самый. К этой вещи мы много раз прибегали в интерпретационных и литературных целях. Мы соединяем традиции русской литературы, китайского романа, который, между прочим, был жанром непрестижным, массовым и только гораздо поздней стал классическим, и такого современного вида словесности, как фэнтези. Но китайский роман нам ближе, и даже используемые нами масс-медиальные жанры пропускаются через фильтры этой традиции или, точнее, через фильтры фантазмов о ней. Разумеется, все это не столько реальный, сколько наш Восток, что отражено в выставке «Шизо-Китай» – мы придумали этот термин и инспирировали идею.
А.Г.: Вы как будто следуете просветительскому обычаю, который тоже был терапевтическим и вдобавок все время создавал воображаемые китайские миры – от трактатов иезуитских миссионеров до сочинений Вольтера, Гердера или экономиста Кине, считавшего Поднебесную образчиком пленительных гармоний.
П.П.: В нас есть душок XVIII века – что называется, «Рассуждение о пользе приятного и приятности полезного». В каком-то смысле все рассуждения МГ умещаются в эту формулировку (смеется).
М.Г.: Имеется определенная линия русской литературы XX века от второго авангарда 60-х годов до МГ, причем МГ – это и «Медгерменевтика», и Михаил Гробман…
П.П.: Одно и то же…
М.Г.: Очень четкая линия, мы всегда считали ее единственно верной и единственно существующей, и отношение к ней со стороны интеллигентского сознания за прошедшие годы почти не изменилось – она им по-прежнему отторгается. Параллельно мы видим невероятно яркие сполохи и огни разных прочих русских литератур, но если ситуацию огрубить, то она выглядит следующим образом: есть литература наша – и вся остальная, неважно, хорошая или плохая. Эта вторая, не наша словесность соответствует даже не массовому, а широкому интеллигентскому сознанию, в ней находится, например, Бродский, там же состоят литературно-политические диссиденты. Как ты реагируешь на такое положение вещей, что ты думаешь, глядя на эту одинокую, до сих пор, в сущности, никому не нужную линию в море посторонней или враждебной ей литературы?
П.П.: Мне кажется, что глубинная установка на большую русскую литературу продолжает существовать, чему свидетельство – желание таких писателей, как Сорокин, и некоторых других авторов нашего круга стать частью традиции, идущей от Пушкина, а не от авангарда. Иными словами, они хотят выйти из маргинальной ситуации и попасть в хрестоматию…
М.Г.: Назвать сегодня имя Пушкина – все равно что не сказать ничего. Пушкин – это ноль или все, его имя не несет в себе содержания…
П.П.: Я так не думаю. Важна общепризнанная иерархия, причем любопытно, что в данном случае иерархия, конституирующая мир русского языка и словесности, является внутренней: Пушкин – фигура совсем не интернациональная, его нет снаружи. Положение, сложившееся сегодня вокруг русской литературы, противоположно тому, которым характеризуется нынешнее бытование русского и в целом – современного искусства. Никакого параллелизма я здесь не вижу, напротив, все обстоит ровно наоборот.
Ситуация, связанная со словесностью, уже потому представляется мне несравненно более оптимистичной, что в огромный туннель, вырытый русской литературной традицией, вкачана масса разнообразной энергии: исторической, либидонозной, этической, религиозной, какой угодно иной, и этот процесс не закончен, слухи о его завершении – очевидное преувеличение. Пока за всем этим делом стоит система государственного языка и государственной самоидентификации, – а она, безусловно, стоит – большая литература продолжается. Я далек от мысли измерять величие литературы достоинством писателей и текстов, по моему убеждению, это величие достигается объемом вложенных в литературу инвестиций, то есть интересов и потребностей государства. И возникает исключительно важная проблема: роль русского языка как медиатора между составляющими Россию регионами, населенными людьми с разной культурой, говорящими на различных наречиях. Пушкин оттого и стал «солнцем русской поэзии», что сфокусировал на себе имперскую функцию этого посредничающего языка – в «Памятнике» о том сказано прямо. Он перечисляет народы, которые должен соединить в нечто целое, и ни разу не выходит из пределов Российской империи. Поразительная точность: славянин, тунгус, калмык, отнюдь не англичанин или француз. Глобальный политический вопрос удержания разноплеменного, разноязыкого государства по сей день решается с помощью русского языка и, следовательно, русской словесности – этой работающей машины, этой конъюнктуры фантазмов, встроенной в центральный блок языка. Поэтому наши с Ануфриевым претензии очень высокие – войти в стержневую линию. Когда я читал в одесском Доме ученых фрагменты из романа, старушки спросили меня, зачем мы вообще это пишем, и я ответил: цель очень проста – быть включенным в школьную программу. Это и есть высшее достижение в русской словесности, потому что, пока этого не произошло, литература находится в рамках рынка, где она зависит от колебаний читательских вкусов, от изменяющихся представлений. И только будучи включенной в школьную программу, в систему обязательного ознакомления литература извлекается из конъюнктуры желаний и спроса, она канонизируется, приобретая религиозный статус. Качество произведений не имеет большого значения, о нем даже вообще бессмысленно говорить, главное – канонизация, выпадение из механизма случайностей. Бродский войдет в этот стержень, войдет в него и Сорокин. Тут важен баланс – немного духовного, немного говна. И у Бродского, и у Сорокина, и у нас очень важна эта четкая ориентированность на государственное использование языка и литературы, в каких бы формах – величественных или распадающихся, бредовых – ни совершалось оприходование речи. У того же Сорокина сквозь все его скатологические заклинания слышится звенящая мощь государственной машины…
А.Г.: Ваши литературные претензии совершенно обратны тем, что свойственны вам в современном искусстве: вы хотите, чтобы вас окликали и славили смотрящие со школьных стен ангелы, и мечтаете стать святым, потому что, как говорил Константин Леонтьев, свят только тот, кто церковью признан святым после кончины…
П.П.: Да, да…
И.В. – Г.: Вы, таким образом, пишете для людей, вы хотите быть понятными…
П.П.: Спорный вопрос. Литература, популярная, адресованная людям, очень часто в школьную программу не попадает. Разница стратегий в искусстве и литературе обусловлена тем, что в последней иерархия сохраняется и эта ценностная елка вроде бы – ручаться, разумеется, нельзя – обещает выстоять, уцелеть. По крайней мере в русской литературе такая елка существует в единственном числе, тогда как искусство, я уже об этом говорил, располагает целым лесом равновеликих деревьев, и каждый раз под Новый год их срубают и куда-то уносят. Но насчет литературной елки – это, конечно, гипотеза.
А.Г.: Тем не менее эта гипотеза определяет ваше поведение как писателя.
П.П.: На данный момент определяет, причем это фиксируется интуитивно и затем подтверждается непосредственно, опытным путем: все равно что вытянуть руку и почувствовать – вот здесь ветер дует, а тут уже нет. Возьмем в особенности жанр романа, имеющий глубочайшие психопатологические корни, связанные буквально со всем: с династией Романовых, с романской преемственностью от Рима… Наша – моя, в частности, – жизнь строится по викторианской бинарной модели, где один из джентльменов воплощает добропорядочную корректность, а другой – теневую сторону бытия; литература, писание нами романа соотносится с изнаночным Хайдом, но зато обращено к чему-то неубывающему, к темной долгосрочности большого проекта, тогда как, занимающийся искусством, Джекиль, хоть и пребывает на освещенном пространстве, не может гарантировать его долговечности. Все временно, но объемы времени различны, и мои ощущения относительно современного искусства – неутешительные. Правда, они продиктованы и желанием, потому что в каком-то смысле мы не желаем современному искусству добра (все смеются), а русской литературе желаем всего самого хорошего. Но ведь желания наши растут из обстоятельств реальности, мы выдрессированы так, чтобы желать реального.