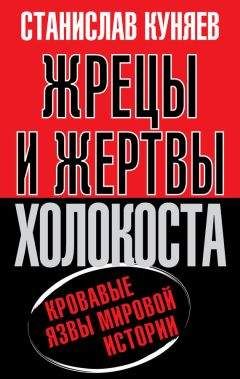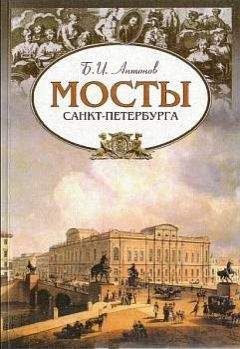Станислав Куняев - Жрецы и жертвы Холокоста
над жёлтой водой пролетела.
И чтобы среди суеты
век памяти не был короток,
мы спешились и на цветы
собрали по нескольку злотых.
6
Трибун, вчера произносивший речь,
сегодня сник. В его отчизне ночью
раздался гул, зашевелилась твердь
и пустословье вылезло воочью.
Вы, щелкопёры и говоруны,
я видел вас на всяческих широтах.
Вас выделяет организм страны,
как слизь, — на эпохальных поворотах.
Грядущий пламень теплится в золе,
а слово «кровь» всегда звучит утробно…
Но что же делать, если на земле
ничто не зарождается бескровно!
Как пауки из выморочных слов,
вы тщитесь ради цели бесполезной
соткать стенографический покров
над синей мглой, над животворной бездной.
Но грянет гром — покатится звезда,
внезапно заскрипит кора земная,
и от словесной пыли ни следа,
и жизнь шумит, словесный прах смывая.
7
Гидесса — студентка с копною волос,
такая, что я покачнулся…
Но вот за витриною — груда волос:
Причёска — кощунство.
Полячка, что делать? — ведь жизнь коротка,
в ней всякая встреча, как чудо…
Труба крематория так высока! —
Кокетство — кощунство.
Согбенный еврей неподвижно стоит,
и скорбь на лице, как кольчуга.
Свихнуться бы надо — стоит и молчит.
Молчанье — кощунство
Художник с мольбертом рисует барак,
чтоб сплавились жизнь и искусство.
Как будто возможно! Наивный чудак…
Искусство — кощунство.
Турист от усталости очи закрыл,
пора бы, дружище, очнуться.
А где — ты находишься, милый, забыл?
Усталость — кощунство.
На поле крестьянское пепел летел,
где брюква, ячмень и капуста
цвели, удобряясь останками тел…
Капуста — кощунство.
О эти прекрасные рифмы мои,
мои благородные чувства!
Да что говорить? — Помолчи, помолчи,
иначе — кощунство.
8
Почему же по центру Европы,
на пути всё живое утюжа,
разрушая дома и утробы,
не промчались железные туши,
почему не проехали танки,
чтоб оставить подобие свалки,
чтоб остались разбитые камни,
да зверей одинокие тропы,
да пустое пространство на карте,
как клеймо на груди у Европы…
Почему не нашлось наказанья?
Не хватило фантазии бедной?
Но попалось мне в руки сказанье
из истории ветхозаветной.
9
Как сказал Аврааму господь:
— Дух растлился и рыщет по свету,
и трепещет невинная плоть,
ожидая призыва к ответу.
Я вчера поглядел с высоты:
ни фанатиков, ни атеистов,
разложились, живут как скоты,
и поэтому гнев мой неистов.
Кто в разврате, а кто во хмелю,
кто в распутство ушёл, кто в крамолу
И поэтому испепелю
Без пощады Содом и Гоморру!
— Господи, — ответил Авраам, —
я согласен, мы несовершенны,
строим небоскрёбы и вертепы,
воздвигаем башню к облакам.
Благостыни недостойны мы,
все в пороках, в метинах позора.
Мало нам чумы или войны,
не хватает глада или мора.
Докатились. Господи, прости!
но неужто среди нас не видно,
может быть, найдётся, посмотри,
ну хотя бы пятьдесят невинных.
Пятьдесят младенцев или жён…
разбомбишь — и грех падёт на душу… —
И, коварной логикой сражён,
Бог сказал: — Найдётся — не разрушу!
— Но послушай! — продолжал хитрец. —
Для тебя любой заблудший дорог.
Основоположник и Отец,
ну а если нас найдётся сорок?..
Может, в яслях, может, в детсадах
сорок невиновных, душа в душу… —
Помолчавши, Бог ответил так,
очень недовольно: — Не разрушу…
Шла торговля, били по рукам,
то к стопам божественным ложился,
то в припадке падал Авраам,
то в изнеможении божился
и рискнул — А ежели один
праведник?! —
И, потрясая сушу,
Бог вскричал: — так знай же, сукин сын,
и едина ради не разрушу!
10
Может быть, время, а может, война
женщину в чёрном платке истрепала.
Не потому ли так страстно она
к каменным плитам костёла припала?
Женщина разве сумеет понять
в мире трепещущем и разноцветном,
как совмещаются твист и Освенцим,
с чем соглашаться и что проклинать?
Разве успеет осмыслить она
тайну материи, сущность движенья,
если простейшей любви от рожденья
чистая истина в дар не дана?
Что ж, органист,
забывайся, играй,
вечность клубится под сводами храма,
пусть расплеснётся она через край
из сладкогласной утробы органа!
(1960–1964)
II
Вторым магнитным полюсом моей исторической вольтовой дуги после польского стал, как естественное продолжение трагедии Холокоста, ближневосточный арабский полюс. К тому же меня после моих “идеологических скандалов” — дискуссии “Классика и мы”, письма в ЦК о “Метрополе” и о сионизме — если и посылали от Союза писателей за границу, то чаще всего на арабский Восток — в Сирию, Ирак, Иорданию, Йемен, Алжир, Тунис. Мол, говори там, что хочешь…
А я и рад был: в чреве великих древних цивилизаций в семидесятые- восьмидесятые годы кипела живая, кровоточащая, настоящая человеческая история. Не то что в пошлой и полуживой Европе, где встречаешься с какими-нибудь славистами, мелкими диссидентами, газетными папарацци. Ближневосточная жизнь, напротив, была трагической, мощной, простонародной. В Дамаске и Багдаде, в священной для мусульман Кербале и на берегах Иордана — великого ручейка человечества, который кое-где перепрыгнуть не стоило труда, — я встречал людей, умеющих жертвовать собой во имя своего народа и с именем Бога на устах.
В одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году мы прилетели с кабардинцем Алимом Пшемаховичем Кешоковым в Дамаск. Отоспавшись после самолета в гостинице, мы утром вышли в гостиничный вестибюль и встретили высокого араба с седой шевелюрой. Он бросился к нам с распростертыми объятьями. Это был палестинский поэт Муин Бсису, с которым мы не раз встречались на ближневосточных земных широтах. Я хорошо помнил его по Тунису…
Шел съезд писателей Палестины. Мы заседали под открытым небом в каком-то парке, над президиумом под порывами ветра, налетавшего со стороны Средиземного моря, трепетало, как парус, туго натянутое полотнище, на котором в окружении двух пальмовых ветвей была оттиснута, словно зеленый наконечник копья, территория Палестины, перекрещенная двумя черными винтовками. Со стола президиума аж до самого пола свешивалось белое покрывало с нашитыми из красных букв арабской вязи словами: “Кровью напишем для Палестины”. На трибуну взлетел Муин и стал выкрикивать с нее стихи, посвященные командиру студенческого отряда, погибшему в схватке с израильтянами в ливанских горах. Рефрен стихотворенья, вызвавшего бурю рукоплесканий, мне тут же перевели:
Я люблю сопротивление, потому что оно — пуля в груди, а не гвоздика в петлице.
Поэт читал не только для живых, но и для мертвых, потому что трибуна, с которой он выступал, была обрамлена портретами палестинских писателей и журналистов, погибших в схватках за Палестину. Все они были чем-то похожи на Че Гевару; на молодых и суровых лицах лежал трагический отсвет мученической смерти и веры в победу.
В заключительный день съезда я был приглашен на торжественный праздник-банкет в отель “Хилтон”.
На эстраде пела знаменитая ливанская певица Фейруз, Муин читал стихи, посвященные ей:
Так пой, Фейруз, для воробьев, сидящих на решетке моей тюрьмы.
Но сотни палестинцев, сидящих в огромном зале отеля, смотрели не столько на легендарную Фейруз и знаменитого поэта, сколько на громадного араба, который, словно джинн из “Тысячи и одной ночи”, возвышался над всеми людьми в центре зала. Он то и дело пожимал руки, тянущиеся к нему, улыбался белозубым ртом под черной щеткой усов, чокался бокалом красного вина с поклонниками, желавшими одного — прикоснуться к нему. Принимая, как должное, признание и восторги, великан осенял всех жаждущих прикосновением своей руки, похожей на корявую ветвь ливанского кедра. Это был человек, расстрелявший команду израильских суперменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.
Его звали каким-то сверхчеловеческим именем Абу — и дальше следовала цепь тотемных имен, обозначавших род, племя, семью.
Мы сидели за одним столом с Муином, и, замерев от ужаса, вызванного своими собственными словами, я вдруг сказал ему:
— Познакомь меня с ним!
Муин схватил меня за руку, и мы стали продираться сквозь горячую, влажную толпу, сквозь запахи жареного мяса, вина, пряностей и других испарений к сказочному арабу. Муин с трудом раздвинул окружение телохранителей кумира и сказал ему, что я известный русский поэт. Кумир, в черном костюме тонкого сукна, в белой рубахе, протянул мне волосатую лапу, украшенную золотыми перстнями, и моя ладонь исчезла в ней. Я задрал голову и встретился с его — нет, не глазами — а как будто двумя вставленными в глазницы холодными драгоценными камнями, не выдержал его взгляда, опустил глаза, увидел, что его шелковая рубаха широко распахнута, а грудь покрыта курчавой черной шерстью, и со страхом понял, что у него все тело покрыто таким же покровом, как у человекоподобных — у Голиафа или Гильгамеша.