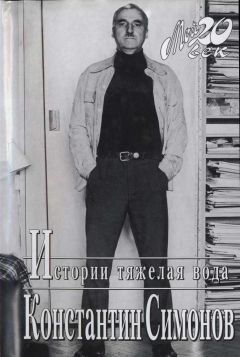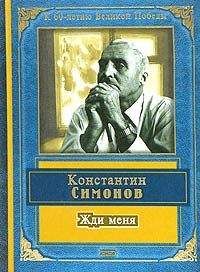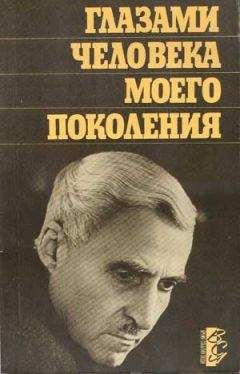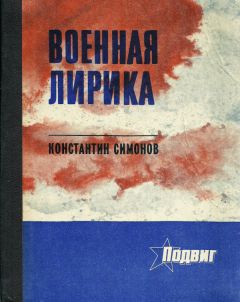Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Впечатление от смерти Ленина в семье было очень сильное, глубокое и горестное. Может быть, оно еще было усилено и тем обстоятельством, что в тот год мы были в Москве, отчим проходил переподготовку на высших педагогических курсах и в качестве курсанта этого военного учебного заведения стоял в караулах во время похорон Ленина. Помню, что в семье были слезы. Ощущения того, что на смену Ленину пришел Сталин, ни у меня, тогдашнего мальчишки, ни в нашей семье не было. Троцкого не любили, о борьбе с его сторонниками — троцкистами слышали и знали, тем более что борьба эта происходила и в армии, отзвуки ее наиболее непосредственно доходили до отчима. К троцкистам относились отрицательно, а к борьбе с ними как к чему‑то само собой разумеющемуся. Но представления о Сталине как о главном борце с троцкизмом, сколько помню, тогда не возникало. Где‑то до двадцать восьмого, даже до двадцать девятого года имена Рыкова, Сталина, Бухарина, Калинина, Чичерина, Луначарского существовали как‑то в одном ряду. В предыдущие годы так же примерно звучали имена Зиновьева, Каменева, позже они исчезли из обихода. Понимание того, что Сталин во главе всего, что происходит, сложилось где‑то между началом коллективизации, первой пятилетки и XVI съездом партии, который застал меня в седьмом классе школы, как тогда говорилось, в седьмой группе.
С той жестокой действительностью, которая много лет спустя была определена формулой «годы необоснованных массовых репрессий», я столкнулся очень рано, в двенадцатилетнем возрасте, в 1927 году, когда этих массовых репрессий еще не было. Мы с матерью и моей двоюродной сестрой гостили под Кременчугом в селе Потоки у жившей там двоюродной сестры моего отчима, фамилия ее была Каменская, звал я ее тетя Женя, отчества не помню. Тетя Женя была человеком добрым и деятельным, вполне практичным и в то же время, как показала ее дальнейшая судьба, благородным. Она жила там, в Потоках, в своем небольшом домике вместе с безнадежно больным мужем Евгением Николаевичем Лебедевым. Он был уволенным еще до Первой мировой войны в отставку генерал — лейтенантом царской армии и уже много лет лежал неподвижно с парализованными ногами, а тетя Женя ходила за ним. Она была уже немолода, но все‑таки на много лет моложе его, и, очевидно, некогда в том, что она согласилась быть при нем, парализованном, в качестве не столько жены, сколько сиделки, имели место свои практические соображения. Но когда все переменилось, перевернулось, она не бросила бедного старика и продолжала нести свой крест. Старик, кажется, был из числа офицеров либерального толка, неподвижность свою переносил мужественно и с достоинством, на судьбу не жаловался и на советскую власть не ворчал. Был хорошо образован, и мне, двенадцатилетнему мальчишке, было интересно слушать его, о чем бы он ни брался рассказывать. Я это хорошо помню, хотя о чем он рассказывал, в памяти не сохранилось.
И вот однажды я, мама и моя двоюродная сестра отправились в лес за грибами; как водится, минут через пятнадцать выяснилось, что дома что‑то забыли — не то какой‑то мамин платок или кофточку, не то еще что‑то, и, разумеется, как самого младшего за этим погнали обратно меня. Я постучал к тете Жене, но мне открыла не она, а какой‑то незнакомый человек, пропустивший меня в комнату и закрывший за мной дверь. В комнате был еще другой человек — в тот момент, когда я вошел, он, приподняв матрас, на котором неподвижно лежали парализованные ноги старика, заглядывал куда‑то между этим верхним матрасиком и пружинным матрасом — не то чего‑то искал, не то хотел что‑то там поправить — этого я не разобрал, только понял, что что‑то случилось, и случилось необычное. Уже поняв это, я все‑таки по инерции спросил у стоявшей тут же, около кровати, тети Жени про ту вещь, которую забыла мама, где она, и сказал, что мне нужно ее взять и бежать обратно, но прежде, чем она успела ответить, человек, который впустил меня в дом, показал мне на стул и сказал: «Ты посиди, мальчик, посиди и подожди». Я ответил что‑то вроде того, что меня же будет ждать мама. «А будет ждать мама, она придет за тобой сюда. Посиди», — он показал мне стул не грубо, но властно, так, что я понял, что надо сесть, и послушался его. А еще несколькими минутами позже понял все, что происходило, потому что старик Лебедев, остановившийся на полуслове, когда я вошел (а я еще через дверь слышал, что он что‑то громко говорит), поняв теперь, что меня оставили здесь, продолжал, не обращая внимания на мое присутствие, договаривать то, что он начал. Двое людей в штатском, пришедшие производить у него обыск, хотя и предъявили ему свои документы, но ордера на производство обыска не предъявили, и он ругательски ругал их за самоуправство, грозил, что будет жаловаться, стыдил, горячился, и тетя Женя, кажется довольно равнодушная к обыску, больше всего боялась, что у него от волнения будет удар, и успокаивала его как могла, но из этого ничего не выходило. Люди, пришедшие с обыском, продолжали делать свое дело, пересматривали одну за другой, лист за листом книжки, стоявшие на этажерке, лежавшие на столе, заглядывали под клеенки, под вышивки, лежавшие на полочках. Старик, прислонившись к стене, полулежа на кровати, продолжал ругать их, а я сидел на стуле и смотрел на все это.
Через час ко мне присоединилась моя двоюродная сестра, которую послала обеспокоенная моим отсутствием мама. Ее посадили на другой стул. Потом появилась мама, ее посадили на третий. Обыск в конце концов закончился, и, ровным счетом ничего так и не взяв с собой, производившие его люди ушли. Вели они себя сдержанно, не отругивались, может быть, потому, что имели дело со старым и парализованным человеком, но все вместе взятое осталось в памяти как что‑то долгое и тягостное. Кто его знает, может быть, это была чья‑то, как мы теперь говорим, самодеятельность. Евгений Николаевич, как он и обещал, написал и послал жалобу, но возымела ли она результат, я не слышал. Правда, в последующие годы его больше никто не беспокоил, и он через несколько лет умер там, в Потоках, о чем мы узнали из письма, потому что сами больше там не бывали.
Я записал случившееся таким, каким оно осталось в детской памяти, думаю, без преувеличений. В памяти это осталось не как встреча с чем‑то ужасным, или трагическим, или потрясшим меня. В душе было не потрясение, а сильное удивление: я вдруг столкнулся с чем‑то, казалось бы, совершенно не сочетавшимся с той жизнью, какой жила наша семья…
Годом позже в Саратов, где к этому времени служил мой отчим в школе переподготовки командиров запаса, до нас дошло известие, что сослан в Соловки один из дальних родственников отчима, из тех, что называют седьмая вода на киселе, муж сестры его шурина или что‑то в этом роде, я всегда в таких случаях путаюсь. Отчим еще с мировой войны не любил и, пожалуй, даже презирал этого своего дальнего родственника. Будучи сам боевым офицером, пять раз раненным, отравленным газами и много раз награжденным за личную храбрость, отчим не мог простить, что тот — тоже офицер — ухитрился так и не попасть на фронт и всю войну прослужит где‑то по провиантской части, и называл его за это «мучным кирасиром». «Мучной кирасир» был, в представлениях нашей семьи во всяком случае, довольно заядлым антисоветчиком, но, насколько я помню разговоры того времени, попал в Соловки он не только и не столько за это, сколько за участие в каких‑то валютных делах вкупе с другими, более заметными лицами, посаженными по одному делу с ним. К происшедшему, как это ему было свойственно, отчим отнесся однозначно и бескомпромиссно. Жене сосланного посочувствовал как женщине, а о самом пострадавшем отозвался как о человеке, который получил то, что ему причиталось. Сказано это было другими словами, но смысл был именно таков.
Была в разгаре первая пятилетка, у нас в школе были кружки по изучению обоих вариантов — и основного, и оптимального — пятилетнего плана: я увлекался этим куда больше, чем школьными предметами. Недалеко от Саратова, на Волге, гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это вместе взятое сыграло свою роль в том, что, вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так‑то просто, и при нейтралитете матери, я после седьмой группы школы вместе с половиной своих одноклассников пошел в ФЗУ.
Принимали нас по тогдашней системе ЦИТа — Центрального института труда, — мы выполнили какие‑то тесты, и по результатам этих тестов определялась наша будущая специальность. Мне выпало быть токарем, и с осени тридцатого года я начал учиться во 2–м механическом ФЗУ на токаря, а несколькими месяцами позже начал проходить практику как ученик токаря на расположенном тут же по соседству с ФЗУ небольшом заводе «Универсаль», изготовлявшем американские патроны для токарных станков. Одни ребята работали вместе со мной, другие — на других заводах, на «Двигателе Революции» — котельном заводе, на заводе тракторных деталей. Специальность токаря давалась мне с трудом, руки у меня оказались отнюдь не золотые. Некоторая дополнительная сложность заключалась еще и в том, что большую часть нашего курса ФЗУ составляли воспитанники детских домов, а нас, как называли нас — «домашних», было сравнительно немного. Успевать лучше их в теоретических дисциплинах не было доблестью, а вот отставать от них на производстве для меня как для «домашнего» мальчика значило попасть в число презираемых белоручек, а я этого не хотел и поэтому старался как мог.