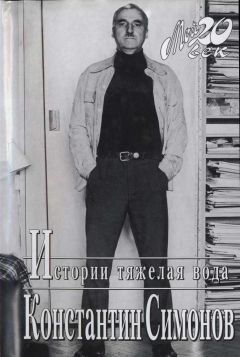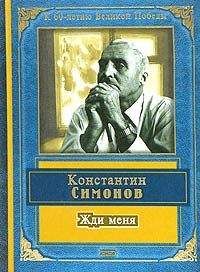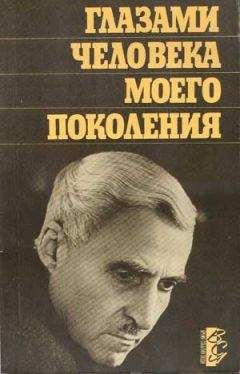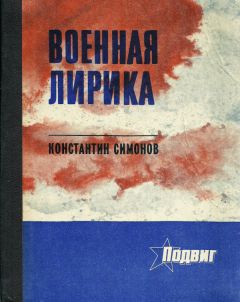Константин Симонов - Истории тяжелая вода
Я был не убежден в его правоте и огорчен. Он был убежден в ней и тоже огорчен. Таким огорченно провожавшим меня из редакции я и запомнил его в тот трудный, но не обидный для меня день, после которого осталось странное чувство: почему‑то не поняли друг друга, а почему — неизвестно…
Ни Твардовский, ни я никогда больше не возвращались к разговору о той рукописи. Так и осталось: я рукопись ему не давал, а он ее не читал.
Я вернулся из Средней Азии в Москву, а через несколько лет после этого Твардовский переехал из Внукова в писательский кооперативный дачный поселок на Пахре, и мы стали с ним там соседями.
Я писал роман и большую часть времени работал за городом. А для Твардовского, хотя он и ездил регулярно в Москву, дом его в нашем дачном поселке стал постоянным местом жительства.
После моего возвращения в Москву мы и до его переезда сюда, на Пахру, были в добрых отношениях. А такое житейское обстоятельство, как соседство, сблизило нас намного больше. Точней говоря, оно, это соседство, привело ко многим встречам и разговорам, постепенно ставшим как бы в обычае у нас обоих. А эти, ставшие в обычае, встречи и разговоры, должно быть, позволили лучше узнать и понять друг друга и тем самым привели к большей близости.
Близость эта, когда речь заходила о литературе, не исключала споров и несогласий в оценке тех или других произведений и лиц. Но если говорить о моем отношении к Твардовскому в ту пору, то самым главным было мое, окончательно установившееся, понимание всей крупности и незаурядности этой личности и всего значения ее в нашей литературе.
Я мог в том или другом не сходиться с Твардовским, и это достаточно откровенно обнаруживалось в наших с ним разговорах. Но его понимание долга писателя, его понимание чести и достоинства литературы и ее предназначения в жизни общества, не раз высказанные им не только в разговорах, но и в статьях и выступлениях, в том числе с такой высокой трибуны, как съезд партии, — были для меня бесспорны.
А что до наших личных бесед, то я могу без обиняков сказать о том серьезном нравственном влиянии, которое имело на меня частое общение с Твардовским в последнее десятилетие его жизни.
В те годы, о которых я вспоминаю, Твардовский был, а потом перестал быть редактором «Нового мира». Все связанное и с долгими годами этой работы, и с последующим уходом из журнала, занимая огромное место в жизни Твардовского, естественно, занимало немалое место и во всех наших разговорах с ним, и в моей собственной душевной жизни… Было бы странно, если бы это было не так.
В заключение — одно воспоминание, связанное по времени с началом лета 1969 года. В небольшое приморское селение Гульрипши, где я всегда, когда это удавалось, уже в течение многих лет проводил по два — три месяца в году, приехал Твардовский вместе с женой, Марией Илларионовной, и устроился на жительство в двухстах шагах от меня, в домике местной жительницы тети Паши.
В Абхазии Твардовский был уже не впервые. Последние годы его связывали дружеские отношения с абхазским поэтом и прозаиком Багратом Васильевичем Шинкубой, и он, по совету и предложению Шинкубы, уже приезжал сюда, жил в домах отдыха и санаториях. На этот раз им с Марией Илларионовной захотелось пожить «дикарями» здесь, в Гульрипши, у самого моря, на еще нелюдном в начале лета берегу.
Твардовскому нравилось бывать в Абхазии. Он хорошо себя здесь чувствовал, отдыхал и, наверное, в ту меру, в какую это вообще было возможно, отрывался от тяготивших его мыслей о журнале. И мне казалось, что здесь это ему удавалось больше, чем где- нибудь в другом месте. Его интересовали поездки по селам Абхазии и неторопливые вечерние беседы с Багратом Васильевичем Шинкубой, который был знатоком истории и быта своего народа; Твардовский любил расспрашивать его об этом и подолгу внимательно и уважительно слушал его рассказы.
Квартируя в Гульрипши у тети Паши, Твардовский вставал рано и сразу, с палочкой в руках, шел к морю. Похаживал там, пошвыривая палочкой гальку, купался, сидел на берегу, глядел на море… Так бывало каждый день, но заставал я Твардовского на берегу всего два или три раза — в остальные дни обычно просыпал, потому что накануне допоздна работал над книгой «Последнее лето», с которой у меня что‑то не ладилось. А что — я не мог понять.
Как‑то, когда Твардовский заглянул ко мне, зашел разговор о моей работе и я признался, что она не клеится. Уже в третий раз переписываю, как мне кажется, ключевую в первой части романа главу, а она все не выходит.
— А ты дай мне почитать, — сказал Твардовский и усмехнулся: — Знаю, что для «Знамени», а не для нас. Прочту просто так, по — соседски, через два или три дня.
Он прочел и после завтрака зашел ко мне с рукописью. Положив рукопись на стол, отозвался о ней сдержанно — одобрительно, что‑то вроде того, что «в общем получается, но многое еще сыровато, хотя, впрочем, ты, наверное, это и сам знаешь».
Что сыровато, я знал и сам и подтвердил это. Но меня мучило не это, а никак не выходившая глава. Это была глава о Сталине, следовавшая в рукописи романа сразу за той главой, в которой генерал — лейтенант Львов пишет свое письмо Сталину.
— А ты выкинь ее, — сказал мне Твардовский об этой главе, уверенно и просто, как о чем‑то совершенно ясном для него самого. — Она потому у тебя и не получается, что ее надо выкинуть. А как только выкинешь — сразу без нее все и получится!
Он усмехнулся понравившейся ему самому формулировке и стал после этого серьезно объяснять мне, почему нужно исключить из романа эту, не удавшуюся мне, главу.
— Все, что ты хотел в ней выразить, ты уже выразил в той главе, в том романе. — Речь шла о романе «Солдатами не рождаются». — А тут он у тебя в роман, по сути дела, не введен. Появляется лишь потому, что ему нужно прочесть письмо, которое ему кто‑то написал. Недостаточная причина для появления столь серьезной фигуры. С такой серьезной фигурой и обращаться надо по — серьезному. А что касается твоего Львова, то он гораздо отчетливее проявит себя в романе как раз без этой главы. Без нее он больше заставит думать над собой читателя.
Я поблагодарил Твардовского и без колебаний послушался его.
Глава вылетела из романа с той легкостью, с какой выскакивают только действительно лишние. Так, словно ее никогда и не было.
В день рождения Твардовского, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, он и Мария Илларионовна вместе с Багратом Шинкубой, Иваном Тарбой и другими нашими общими друзьями поехали за десять километров от Гульрипши в загородный ресторан. Мы ужинали там под открытым небом, пили легкое местное красное вино «Изабелла», вкусно и неторопливо ели, наслаждаясь прохладой после дневной жары.
Наши грузинские друзья Нодар Думбадзе и Гульда Каладзе специально приехали к этому вечеру из Кутаиси и привезли с собой в подарок Твардовскому, на день рождения, чудо кулинарного искусства — целиком приготовленного козленка, внутри которого оказался жареный поросенок, внутри поросенка жареный цыпленок, а внутри цыпленка, шутки ради, было положено вареное яичко. Сначала дружно смеялись над этим сюрпризом, а потом так же дружно взялись за работу над этим произведением кутаисской кулинарии.
Вечер этот был веселый, дружеский, без натяжек, без долгих тостов. За нашим разноплеменным столом сидели и люди, давно знавшие Твардовского, и люди, лишь недавно, здесь с ним познакомившиеся, но общая атмосфера доброжелательства и уважения к нему объединяла весь стол. И он в тот вечер, за этим согревшим ему сердце столом мне и сам показался каким‑то немножко оттаявшим от забот и тревог; выглядел более молодым и менее усталым, чем обычно.
Это ощущение сохранилось у меня и на следующий день, когда уже поздно утром я вышел и застал Твардовского еще на берегу. Он стоял босой на теплой утренней гальке, глядел в море и о чем- то думал. То ли такое настроение у него было, то ли такое освещение, но лицо его показалось мне в то утро посвежевшим и помолодевшим.
Я подошел и заговорил с ним. Он отвечал мне приветливо, но односложно, и я почувствовал, что ему сейчас не хочется отвлекаться от чего‑то занимавшего его ум. Я влез в воду и поплыл, а он продолжал стоять на берегу и глядеть на море, кажется, занятый все той же самой мыслью, от которой я своим появлением его только отвлек на минуту, но не оторвал.
В моей памяти, как, наверно, в памяти каждого человека о другом человеке, есть много Твардовских в разные часы его жизни. И сейчас у меня на памяти этот — босой, утренний, стоящий на морском берегу, на следующий день после того, как он встретил там, далеко от Москвы, в Грузии, шестидесятый год своей жизни…
1973
Глазами человека моего поколения
Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда — нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.